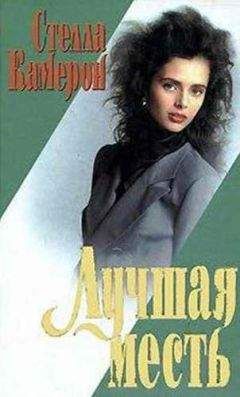Наташа Апрелева - А Роза упала… Дом, в котором живет месть
— Когда мне было лет четырнадцать, ну да, где-то так, я просыпалась и каждое утро фантазировала для себя новое название. Могла велеть называть себя Яблоком. Или Березовым Соком.
— Березовый Сок — хорошее такое индейское имя.
— О-о-о, я в восторге от твоих географических познаний. Индейцы никогда ни одной березы не видали.
— Ну почему. Знаменитейший индейский народный поэт даже посвятил березам несколько пылких строк…
— Это каких? Белая береза под моим окном?
— Не только. Я вообще-то «Во поле береза стояла» хотел исполнить сейчас, душа моя.
— Исполнить, значит.
— Ну да, а раз ты мне помешала, то продолжай про свои детские имена.
— Человеческими я тоже не пренебрегала. Особенно ценила красивые зарубежные: Маделайн, Глория. Еще какие-нибудь обязательно Цветана и Злата.
— Болгарские. Снежана еще.
— Да.
— А я реально поменял себе и имя, и фамилию, и отчество — в шестнадцать лет. Тогда паспорт давали в шестнадцать. Не в четырнадцать.
— Серьезно?! Почему?!
— Ну а я считаю, что это правильно — когда в шестнадцать лет. Ну что там четырнадцатилетний сопляк. Незачем ему паспорт.
— Да при чем тут, нафиг, сопляк?! Почему ты сменил имя, фамилию и отчество?
— Чтобы иметь новое имя, фамилию и отчество.
— Но почему? Тебя звали Ричард Геннадьевич Бляблин? Елпидифор Денисович Телебзда?
— Нет, нет. Гораздо прозаичнее. В какой-то момент разругался с семьей, не желал иметь с ней ничего общего. Вообще ничего.
— Ты меня убиваешь!..
— Нет, нет! Может быть, искусственное дыхание? Изо рта в рот?
— Непрямой массаж сердца, я думаю, поможет.
— Понятно…
— Так как же тебя зовут по-настоящему?
— Не помню.
— Ну что ты врешь всегда!
— Правда, забыл! Я долго старался. Вот, получилось не так давно.
— Так-таки и забыл?
— В основном, душа моя, в основном…
* * *— Старосельцева, просыпайся, — молодая медсестра с перекрестьем пластыря на румяной щеке потрясла Лильку за плечо, — у тебя сегодня кровь и моча. Мочу вот в эту баночку соберешь, а на кровь через пятнадцать минут в процедурную…
Лилька с усилием открыла глаза, казалось, в них плеснули чем-то ядовитым, например, ртутью. Откуда еще эта ртуть, злобно подумала Лилька, ага, Вэ Вэ Маяковский, «Товарищу машинистке», «Почерк ртутью ест глаза…»
До чего хорошо быть всей из себя филологом, злобно подумала Лилька, на смертном одре элегантно расположилась и цитируешь классиков… А какой простор дает русская пословица девятнадцатого века! Стыд не дым, глаза не выест. Что русскому хорошо, то немцу — смерть. И так далее.
Она подхватила емкость с плотно закрывающейся голубоватой крышечкой и отправилась в туалет. Отправилась в туалет она очень, очень медленно, потому что ужасающе кружилась голова и смешно подгибались колени. Нет, Лильке-то смешно как раз и не было.
Лилька хотела есть. Еды ей, как свежеотравленной, не полагалось никакой, и поэтому она жалко слонялась у дверей отделенческого блока питания. В столовой было малолюдно, многие больничной пищей традиционно брезговали, многие находились в состоянии, идентичном Лилькиному — свежеотравленном.
Высокая и даже огромная женщина, с густо-черными мохнатыми бровями и клочком бумажки на губе, увернутая в полосатый халат, негромко сказала Лильке в ухо:
— Тоже недотраванутая?
Это прозвучало как диагноз.
Лилька испуганно отшатнулась и дополнительно побледнела.
— Травилась, говорю? — огромная женщина повысила голос. — Несбывшаяся самоубийца?
— Нннет, — выдавила Лилька, мелкими шажками отходя к вечнозеленому растению в шершавой кадке, — я случайно… Чего не чаешь, то скорее сбудется…
— Так и я случайно! — обрадовалась собеседница. — Как не случайно! Лолой меня зовут. А тебя?
Она решительно подхватила Лильку почти под мышки и переставила ее к широкому, плохо выкрашенному подоконнику.
— Я ведь в оранжерее работаю, — с чувством начала Лола, поднимая поочередно брови, — смерть, как у нас в оранжерее жарко. Просто ад, я все девкам так и говорю: работаем в аду. Одна радость — выйти и из холодильничка минералки попить. Или там сочку. У нас всегда припасено, сама понимаешь. Или не понимаешь?
Знойная Лола строго осмотрела притихшую Лильку. Лилька мелко закивала, мечтая отделаться от работницы оранжереи и вытянуться на кровати.
— Так вот. Открываю я холодильник, достаю бутылочку нарзану. Ну, думаю, сейчас выпью прохлад ненького… Бутылка прям холодная. Рука немеет. Голимый кусок льда! И что, по-твоему, происходит?
Вряд ли она ждет от меня ответа, меланхолично подумала Лилька, неопределенно пожав плечами.
— Глотаю я эту как бы минералку, и чувствую — помираю… Такая жуткая боль, я заорала и грохнулась без сознания, удачно, в обгцем-то, получилось, потому как от болевого шока и помереть-то недолго было. Оказалось, этот гандон Засечкин своим отсутствующим мозгом додумался набуровить в бутылку из-под нарзана фторной кислоты, ему для своих пидорасовских целей, видишь ли, было нужно… для машины там чего-то… дачу удобрять… жене, суке, от мозолей…
Лола увлеченно и со множеством деталей описывала свои взаимоотношения с назогастральным зондом и с заведующим отделением доктором Родкиным. Лилька внимательно не слушала.
— Ой, что тут было — это война. Короче, Родкин — он же еще преподаватель в институте, ну учит врачей на врачей, я хочу сказать. И вот, насолил он, видно, кому-то из студентов, ему и отомстили. Ага, жестоко так отомстили, намазали ручку от двери его кабинета жидким говном… Родкин выходит такой, массирует ноздри, втягивает воздух и говорит: какие свежие фекалии!..
Лилька молчала. Интересовалась интерьером.
У двери в ординаторскую висел специальный пожарный щиток, традиционно красный. Этакая телефонная трубка под запаянным стеклянным колпаком. Табличка под этой конструкцией гласила: «При пожаре — дождись гудка». Кто-то, очевидно пациенты, идущие на поправку, черным маркером вписали несколько дополнительных рекомендаций. Сверху знака тире. Теперь текст выглядит так: «При пожаре — воруй, убивай, трахай гусей и сестер моложе двадцати — дождись гудка».
Про Дом. 1958–1960 гг