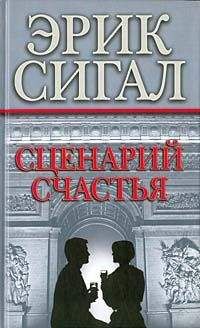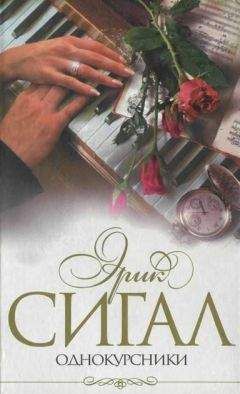Эрик Сигал - Аутодафе
— И как он? — спросил реб Видаль. Он был потрясен не меньше моего.
— Несколько огнестрельных ранений, — выдавил я. — Одна пуля попала в голову. Сейчас его как раз оперируют, но шансов, что выживет…
— Пятьдесят на пятьдесят? — спросил он с надеждой в голосе.
— Нет, — ответил я, чувствуя, как мою грудь жгут раскаленные угли. — Один на миллион.
В полной растерянности, я был не в силах осмыслить масштабы происшедшего и вдруг обнаружил, что размышляю над тем, как мог Химмельфарб осквернить шабат и нести что-то в руках.
До меня донеслись сочувственные слова реба Видаля:
— Присядьте, Дэнни. Я позвоню и узнаю расписание полетов.
Я окаменел и думал только о моем любимом дяде. О моем мудром, бесстрашном дяде. Перед моими глазами возникла рука Мириам, державшая стакан минеральной воды.
— Вот, Дэниэл, возьмите, — сказала она. — Вам это поможет.
Странно, правда? В тот момент я сделал все, чтобы случайно не коснуться ее руки, хотя если что и могло облегчить мои страдания, так это ее прикосновение.
В комнату медленно вошел реб Видаль.
— Мне очень жаль, Дэниэл, — тихо сказал он. — Первый рейс — завтра в семь утра.
— Нет! — выпалил я. — К тому времени его уже не будет в живых! Я поеду на машине.
— Нет, Дэнни, я вам запрещаю! — Его сильные руки тряхнули меня за плечи. — Бывают трагедии, которые мы не можем ни предотвратить, ни исправить. Я не допущу, чтобы вы ехали в таком состоянии.
Я понимал, что он прав, но я был в таком отчаянии, что ощущал потребность действовать. Я посмотрел на него, и он все понял.
— Хотите пойти в шул помолиться?
Я кивнул.
Он повернулся к жене и дочери:
— Мы идем молиться. Ложитесь без меня.
— Папа, мы тебя дождемся! — взмолилась Мириам. Она бросила на меня нежный взгляд.
Мы оделись. Реб Видаль заметил:
— Дэниэл, я думаю, из нас многие хотели бы сейчас помолиться за зильцского рава. Не возражаете, если я кое-кого оповещу?
— Пожалуйста, — сказал я едва слышно. — Звоните, кому считаете нужным.
В душе я надеялся, что, чем больше в синагоге будет людей, разделяющих мое горе, тем легче мне будет справиться с ним.
Несколько часов мы оставались в небольшой синагоге и пели псалмы. Нас было человек двадцать пять. Никто не уходил, лишь время от времени кто-нибудь отлучался попить. Все молились непрерывно, словно на карту была поставлена судьба целого мира. Я был раздавлен горем и чувством собственной вины.
В день совершеннолетия Эли я сказал слова, которые определили судьбу всей нашей общины. В частном разговоре я втихаря убедил Саула не строить школьного общежития на оккупированных территориях. Но с того момента он принял на себя общественную ответственность, ответственность за всех. Так что сразившая его пуля должна была предназначаться мне.
Все усердно молились, а я прошел к святому ковчегу и упал на колени.
— О Господи, Бог моих отцов, преклоняю свою голову пред Тобой. Сделай так, чтобы Саул остался жить. Не допусти, чтобы пострадали правоверные. Обрати свой гнев на меня. Пожалуйста, услышь меня, и я стану служить Тебе верой и правдой до конца моих дней. Аминь.
Мы пробыли в синагоге до рассвета и после утренних молитв медленно разбрелись по домам, измученные морально и физически. Женщины, тоже молившиеся всю ночь, встретили нас горячим кофе и булочками. Я боялся спросить, не было ли новых известий. Но миссис Видаль заговорила сама:
— Дэнни, звонила ваша мама…
— Да? — У меня перехватило дыхание.
— Ваш дядя… — Она запнулась. — Операция закончилась. Пулю извлекли. Он… жив.
— Что?! — ахнул я.
— Даже врач сказал, что это чудо.
От потрясения я не мог говорить. Мы с ребом Видалем переглянулись. Встретив мой взгляд помутневшими от усталости глазами, он невнятно сказал:
— Порой — даже и тогда, когда наша вера совсем ослабевает, — Отец Вселенной подает нам знак, что наши молитвы услышаны.
Он был прав. Я получил этот знак.
Бегать от своей судьбы я больше не мог.
78
Дэниэл
Мое испытание было нелегким. Дядя позаботился о том, чтобы меня проэкзаменовали не менее четырех авторитетных богословов, представлявших разные направления иудаизма, со всех концов города. Сей совет мудрецов именовался Гедолей Ха-Тора.
Оглядываясь назад, могу сказать, что самое любопытное в этой процедуре было то, что я к испытаниям совсем не готовился. Я не просиживал ночи напролет, освежая в памяти отрывки из Писания и вообще все, что могло произвести наилучшее впечатление на моих почтенных экзаменаторов. На главное испытание своей жизни я шел как лунатик. Меня раздирали противоречивые эмоции. Кошмарное видение: раввин стоит в синагоге возле святого ковчега — и тут раздаются выстрелы. Стреляет кто-то из «своих». В то же время мысль о Мириам переполняла меня безграничной любовью и радостью.
Наконец я мог считать себя настоящим сыном своего отца. Рав Даниил Луриа. Зильцский ребе.
Был четверг, обычный рабочий день, к тому же я приехал на целый час раньше. Тем не менее в синагоге уже было полно народу. Идя по центральному проходу в старом отцовском талите, я видел, как со всех сторон молящиеся поднимались, склоняли головы и кричали слова приветствия: «Яшер-коах!», «Да умножится сила твоя!», «Жить тебе до ста двадцати!»
Я поднялся по трем ступенькам к святому ковчегу и стал молиться.
«Да дойдет до Тебя молитва моя, Господь любящий и милосердный!»
Я повернулся к собравшимся, положил обе ладони на покатый стол и обвел глазами зал. Внизу передо мной было море людей, как мне казалось — сотни и тысячи белых молитвенных шалей. В первом ряду в инвалидной коляске сидел дядя Саул, рядом с ним стоял Эли.
Я поднял глаза на женскую галерею и тотчас перехватил взгляд трех самых дорогих мне людей на земле — матери, сестры и сидящей между ними моей возлюбленной Мириам, которая через три недели станет моей женой.
Я немного помолчал. Потом, набрав побольше воздуху, стал читать самую главную, единственную подходящую к случаю молитву:
«Благословен Ты, Всевышний, Бог наш, Который дал мне дожить, и дал мне существование, и дал мне достичь этого счастливого мига».
Когда вся община отдалась молитве, я закрыл лицо руками и заплакал.
79
Тимоти
В новогоднюю ночь, когда все другие приглашенные, среди которых были рабочие, священники, студенты и просто соседи, разошлись, Хардт повел Тима к себе в кабинет, налил себе и ему по большому стакану жинжиньи и коротко сказал:
— Выпьем!
— За что-нибудь конкретное? — уточнил Тим.
В ответ Хардт выдвинул ящик стола и достал пухлую стопку бумаги. С лучезарной улыбкой он протянул ее Тиму.
— Я закончил. Это та самая книга, которую фон Якоб так жаждет запретить. Вручаю ее тебе в знак нашего братства.
— Не понимаю.
— Она твоя! — настойчиво повторил Хардт. — Можешь сегодня ее прочесть, а утром сжечь. Или прямо сейчас сожги. — После паузы он добавил: — А если хочешь, помоги мне ее напечатать. С Новым годом, дом Тимотео!
Он вышел из комнаты, оставив Тимоти стоять в оцепенении. Потом Тим медленно опустился в кресло у стола и поудобнее приладил тусклую лампу. Сколько же времени понадобилось университетской секретарше Хардта, чтобы все это напечатать, переплести и снабдить заголовком?
«Распятие Любви».
Чтобы уяснить содержание этого труда, Тиму не пришлось детально штудировать все четыреста восемнадцать страниц. Хардт в своей книге писал о том, что половое воздержание духовенства является невозможным и, в его представлении, бессмысленно.
Взрывоопасность книги заключалась в обилии собранных автором фактов. Хардт приводил сведения, случаи, имена и свидетельства бесчисленного множества прелатов святой церкви со всех концов католического мира, которые не только с готовностью ответили на его вопросы, но и дали согласие на оглашение в печати своих имен. Все эти люди продолжали служить Господу и одновременно допускали для себя плотскую связь с женщиной, освященную любовью.
Тим знал, что история церкви насчитывает немало падших священников и даже пап, селивших в Апостольском дворце своих так называемых «племянников». Но перечень подобных случаев, имевших место в Америке, его ошеломил.
Ричард Сайп, психотерапевт из Балтимора, а некогда — монах-бенедиктинец, утверждал, что половина из пятидесяти тысяч католических священников в Соединенных Штатах нарушают обет безбрачия.
И при все этом труд Эрнешту Хардта нельзя было назвать книгой, подрывающей устои церкви. Вернее было бы сказать, что он попытался вернуть честь и достоинство тем, кто, служа Богу, не отказывается и от удовлетворения своих чувственных потребностей.