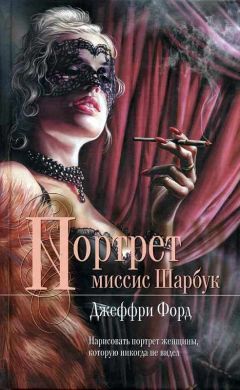Анри Труайя - Прекрасная и неистовая Элизабет
— Ну-ну! — тихо успокаивала ее Элизабет.
Собака, вероятно, копала норку в саду, потому что ее нос был весь в земле. Она радовалась, глаза ее блестели, грязный язычок свисал из пасти.
— Сиди здесь! Ты слишком грязная и тебя нельзя пускать в дом, — сказала Элизабет, шагая по ступенькам подъезда.
Фрикетта села на первую ступеньку. Звуки рояля разносились по всему дому. Это была слезная жалоба, бесконечное монотонное рыдание, ритм которого Патрис отбивал ногой. Неужели это было его сочинение? Может быть, ей было бы лучше не видеться с ним? Но страдание, которое она должна была вынести из этой последней встречи, было почти необходимым для завершения ее жертвы.
Элизабет открыла дверь: мадам Монастье читала Мази газету. Напудренная, затянутая в корсет, с многочисленными цепочками на груди, старая дама боролась с дремотой. При виде Элизабет взгляд ее прояснился.
— Не беспокойтесь, — тихо сказала Элизабет. — Я еду, чтобы сделать несколько покупок в городе.
Как всегда, доверяя ей, обе дамы улыбнулись. Ей захотелось поцеловать их, но она сдержалась, едва не расплакавшись. Выслушав их советы, которые были обращены как бы к другой, оторвавшись от всего, что она разрушила, Элизабет быстро вернулась в коридор. Серые эстампы на стенах указывали ей дорогу. Вот одна дверь, вторая, вот и гостиная с бархатными занавесками бутылочного цвета. За закрытой дверью гремел рояль. Она вошла. Патрис сидел к ней спиной. Он ударял по клавишам с яростью маньяка. Ногой он нажимал на педаль до самого пола. Вдруг он перестал играть и положил руки на колени.
— Патрис! — окликнула она его.
Он повернулся на своем табурете, бросил на жену недовольный взгляд и проворчал:
— В чем дело?
— Я ухожу.
— Куда?
— Купить корм для птиц, — сказала она.
Это будет ее последняя ложь Он печально посмотрел на нее в упор. Он все еще верил ей. Несмотря ни на что, он все еще надеялся, что ей не в чем упрекнуть себя.
— Хочешь, я пойду с тобой? — спросил он.
— Нет, Патрис.
Наступила такая напряженная, такая болезненная тишина, которую Элизабет не смогла бы выдержать, не упав в обморок, если бы она не знала, что приближался конец ее мучению.
— До свидания, — сказала она.
Он не ответил. Элизабет вышла из гостиной и закрыла за собой дверь, отрезая путь к человеку, который еще некоторое время останется в неведении о своем несчастье. Он снова заиграл, но на этот раз нежную, почти успокаивающую мелодию. Фрикетта ждала хозяйку у подъезда. Элизабет схватила ее в охапку и, сильно прижимая к груди, покрыла поцелуями и слезами, высказав ей этим самым все свое горе, которое вынуждена была скрывать от других.
— Фрикетта! Моя Фрикетта! Прости! — простонала она.
В ответ собака лизала ее, вздыхая и повизгивая. Не выпуская из рук свою пушистую ношу, Элизабет пересекла сад с шелестящими деревьями и веселыми лужайками. Мир преображался по мере ее продвижения. Дорожная сумка ждала ее у двери домика. Она поедет в Париж поездом, остановится в какой-нибудь гостинице, позвонит Кристиану, попросит сразу же отвезти ее в Женеву. А потом? Потом все будет черным, грязным, отвратительным. Она нагнулась, чтобы взять сумку. Фрикетта спрыгнула на землю. До ворот было не более десяти шагов. Элизабет прошла очень быстро. Она не осмеливалась обернуться. Может быть, кто-нибудь наблюдал за ней из окна большого дома! Патрис? Его мать? Мази? Старая и молодая Евлалии? Еще раз она потянулась всей своей искалеченной любовью к этому дому, где скоро никто не осмелится произнести вслух ее имени. Потом, словно испугавшись, что ее разоблачат, вернут в последний момент домой, она выбежала на улицу и закрыла железную калитку. Удар калитки отозвался в ее сердце острой болью. Все было кончено.
Черный собачий нос просунулся между прутьями изгороди. Жалобный лай стал еще громче. Вытянувшись на земле, Фрикетта пыталась разглядеть, куда уходила ее хозяйка.
ГЛАВА X
Совершенно разбитый, сидя в кресле, с глазами полными слез, с сердцем, словно раздавленным тяжелым камнем, Патрис был не в силах перечитать письмо Элизабет. Он смотрел на него с каким-то суеверным ужасом, словно это был предмет, содержащий в себе все зло мира. Еще четверть часа назад он надеялся, что их ссора закончится примирением, что в их доме вновь воцарятся покой и любовь. Он упрекал себя даже за то, что продолжал играть, когда его жена, как он предполагал, уже вернулась из похода по магазинам домой. А когда он пошел к ней в комнату, то вместо нее обнаружил на столе этот белый конверт: «Патрису». С вершины своей надежды он скатывался в грязь. Мать и бабушка ждали их к столу, а он сидел здесь, обессиленный, уничтоженный ударом этого страшного открытия. Самые худшие предположения, возникшие вчера, когда она отказалась объяснить ему свое поведение, были сущим пустяком по сравнению с той горькой правдой, которую он узнал. Почему она предала его, человека, который жил только ею и только для нее? Как осмеливалась она изображать невинность перед теми, кого ежедневно втаптывала в грязь? Такое двуличие у существа, на вид такого невинного, туманило его разум, словно при внезапном раздвоении личности. Патрис уже не знал, кем была Элизабет, кем был он сам. Уничтожая себя, она уничтожала и его. У него теперь не было ничего в прошлом, За что можно было бы уцепиться и найти утешение. Его воспоминания, которые она оставила о себе, были пронизаны ни чем иным, как ложью. С каких пор она была ему неверна? В своем письме она ничего не говорила о том, с кем уехала. Но ему нетрудно было догадаться о ком идет речь. Неужели он был настолько наивен, что воображал себе, что она забудет этого человека?! Во время их последнего пребывания в Межеве он ни на секунду не заподозрил ее в том, что ее снова охватит страсть к этому человеку! Но нет никакого сомнения, что именно в Межеве она вновь встречалась с этим человеком, которого сама же называла ничтожеством! Именно там она снова попала под его очарование. Там и был зачат ребенок. Как же Патрис был смешон в своем счастливом и гордом ожидании появления на свет этого ребенка. Этот ребенок будет принадлежать другому, другому будет принадлежать и красота Элизабет, ее ласки, ее смех, ее нежность… А что же остается ему после того счастья, которым он обладал благодаря ей? Ничего! Одиночество, отчаяние, отвращение…
Канарейки прыгали в своей клетке. Фрикетта лаяла в саду. Скомканный носовой платок Элизабет валялся на ночном столике. Ее запах еще витал в воздухе. Но ее уже здесь не было. Она никогда не вернется. Сейчас, став свободной, она летела, полная нетерпения, к своей новой жизни. Может быть, уже встретилась со своим любовником? Патрис уронил голову на сжатые кулаки. Какая грязь! Какая подлость! Он задыхался. По коже пробежали мурашки. На губах он чувствовал вкус солоноватых слез. «Но почему, почему она сделала это?» Послышались шаги, приближающиеся к дому: его мать. Патрис быстро вытер слезы и спрятал письмо в карман. Если до этого момента он думал только о себе и о своем горе, то теперь его ждало новое испытание. Трясущимися руками он зажег сигарету. В зеркале платяного шкафа он увидел отражение человека с мертвенно бледным лицом, сидящего в кресле у окна.
— Ну, Патрис, — сказал мадам Монастье, войдя в комнату. — Что случилось? Уже четверть двенадцатого! Мы ждем вас на второй завтрак!
Он думал о боли, которую причинит ей, и не осмеливался смотреть матери в лицо.
— Элизабет ушла, — сказал он слабым голосом.
— Ушла? — воскликнула мадам Монастье. — Как это ушла? Утром она пошла по магазинам и еще не вернулась. Ты это хочешь сказать?
— Она больше не вернется.
Мадам Монастье вздрогнула и посмотрела на Патриса так внимательно, словно спрашивала себя, уж не рехнулся ли ее сын.
— Что ты мне тут рассказываешь? — спросила она.
— Она больше не вернется, мама. Между ней и мною все кончено.
— Что?.. Мо почему?
Он не ответил.
— Почему, Патрис, маленький мой? — снова спросила она дрожащим голосом. — Это… это невозможно! Вы что, поссорились?
— Нет.
— Тогда как же объяснить…
— Она оставила мне письмо.
— И что она говорит в этом письме?
— Я не могу повторить тебе этого, мама.
— Да нет же, Патрис! Речь идет, конечно, о ребячестве! Видишь ли, я заметила, что Элизабет тяжело переносит свое положение и порой очень нервничает. Может, ты был неловок с ней, обидел ее, сам того не желая?
— Нет, мама.
— Но куда она уехала?
— Я ничего не знаю.
— Ее необходимо разыскать.
— Я больше не хочу ее видеть.
Нахмурив брови, мадам Монастье отказывалась поверить в услышанное. Голосом, в котором слышались упрек и страх, она прошептала:
— Ты больше не хочешь ее видеть?
— Да, мама.
— Но Патрис, я не понимаю тебя… Она твоя жена… Она ждет от тебя ребенка!..