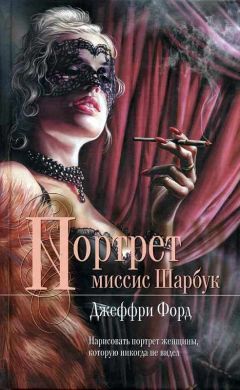Анри Труайя - Прекрасная и неистовая Элизабет
В дверь постучали. Вошла молодая Евлалия с большой кружкой на подносе. За ней в комнату проскользнула Евлалия старая. На ее лице мелко дрожали все морщины, все бородавки. Сгорбившись, вытянув шею по-черепашьи, она подошла к умирающей хозяйке.
— Ох, мадам, мадам! Бог не может допустить этого.
Она мелко перекрестилась и прослезилась:
— Господи Иисус, Святая Мария, Святой Жозеф!..
Элизабет взяла ее за руку и увела в коридор:
— Вам не стыдно так плакать, Евлалия?
— Бедная мадам! Когда я вижу ее так неподвижно лежащей, то мне начинает казаться, что она вот-вот уйдет от нас в иной мир. Надо бы обратиться к господину кюре для последнего причастия.
— Оно не понадобится ей, — сказала Элизабет.
— Так всегда думают, а потом, хлоп, — и человека больше нет!
— О Боже, Евлалия! Успокойтесь! Даже доктор совершенно спокоен за нее.
Старая Евлалия воткнула свой нос в огромный платок, трижды шумно высморкалась, словно дула в трубу, и сказала:
— Я все же пойду намелю кофе, а то вдруг кому-нибудь захочется на ночь глядя выпить кофе.
В это время ее дочь подкидывала уголь в печку. Когда она стала засыпать его в камин, уголь зашипел. Комнату заполнил неприятный запах. После этого обе Евлалии, взявшись под руки, удалились.
Элизабет уселась на маленькую кушетку и положила ноги на подставленную табуретку. Вокруг дома стояла тишина. Ночь вступила в свои права. Устремив взгляд на лицо Мази, Элизабет никак не могла поверить в то, что жизнь может замереть в этом ставшем дорогим ей существе. О смерти легко думать только тогда, когда речь идет о посторонних людях или о тех, кто уже давно ушел из жизни. А под неусыпным оком Элизабет Мази должна стать неуязвимой. «Я спасу ее… — подумала Элизабет. — Надо только очень сильно захотеть, призвать на помощь всю свою любовь!» Потом, задумавшись, она вспомнила о давней истории, увидела себя в Сент-Коломбе перед телом своей подружки Франсуазы Пьеру. Впервые в жизни она увидела покойника. Белое восковое лицо, руки с четками, сложенные на груди. Девочка была такой красивой, такой нежной. Она мечтала выйти замуж за австрийского принца. И вдруг — холод, пустота, гроб… Все молитвы, все надежды оказались бессмысленными. А если также будет и с Мази? Дрожь пробежала между лопатками, а потом по всему телу. Элизабет тихо склонилась над тяжело дышавшей маской. «Она еще здесь! — подумала Элизабет. — Но если дыхание угаснет, что же тогда случится с этим мыслящим существом? Превратится в ничто? Перейдет в мир иной?» Рот Мази скривился, руки задрожали. Элизабет смутно припомнила несколько фраз из катехизиса: «Смерть есть отделение души от тела… После страшного суда наша душа попадет в чистилище, в рай или в ад, по заслугам ее…» Элизабет все еще слышались детские голоса, произносящие эту молитву. Мадемуазель Керон ходила между столами. Правда была, конечно, куда страшней и сложней. Не в молитвенниках, а в молчании ночи, высоко в небесах, в бесконечном водном потоке следовало искать ответ на тайну потусторонней жизни. Элизабет чувствовала это и все-таки, чтобы хоть как-то противостоять этой сверхъестественной силе, она не нашла ничего другого, как прочитать самую простую молитву, выученную в детстве: «Отче наш…» Она тихо шевелила губами, и разум ее затерялся в иллюзии веры.
— Пить!..
Элизабет вздрогнула. Мази восставала из небытия. Ее глаза лихорадочно блестели на лице землистого цвета. Дыхание было прерывистым От приступа кашля лицо стало багровым, на висках вздулись синие вены. Выгнув спину, она с силой прижала тощие руки к груди, чтобы сдержать удары, раздирающие ее изнутри. Элизабет подала ей плевательницу. Мази нагнулась над ней. Кружевной чепец соскользнул на ухо, обнажив вспотевшую лысину с пушком седых волос. Когда кашель немного утих, Элизабет вытерла ей губы и лицо полотенцем, помогла сесть и дала выпить отвар. Старческие пальцы Мази дрожали на желтой фаянсовой кружке. Немного жидкости стекло по углам ее рта. После каждого глотка она открывала рот с болезненной гримасой и делала глубокий вдох. Наконец она снова легла. Глаза ее медленно закрылись. Прерывисто дыша, она с трудом спросила:
— Вы приехали из… Межева?
— Да, Мази, — тихо ответила Элизабет. — Мы приехали еще позавчера.
— А где… канарейки?
— Мы отнесли их в нашу комнату.
— Я хочу взглянуть на них.
— Мы принесем их вам попозже, а пока они спят. И вам тоже надо поспать.
— У меня болит вот здесь, в боку. А еще в груди… Я задыхаюсь… Что делает Патрис? Он играет на рояле?
— Нет, он отдыхает.
— Странно, я слышу звуки фортепиано. Очень тихие… Не оставляйте меня, Элизабет!
— Не беспокойтесь, Мази. Я буду рядом с вами всю ночь.
Мази с трудом приоткрыла морщинистые веки. В ее глазах промелькнула благодарность. Она, видимо, хотела еще что-то сказать, но не смогла издать ни звука. Вялая и горячая рука легла на запястье Элизабет. Затем старушка разжала пальцы. В горле у нее раздалось клокотанье, челюсть отвисла, и она уснула.
Элизабет прикрыла салфеткой ночную лампу, чтобы свет не был таким ярким, и снова уселась на кушетку, накинув на ноги плед. Она поворачивала голову то налево, то направо, но глаза все равно слипались. Элизабет прикрыла отяжелевшие веки, и вещи в комнате стали принимать какие-то странные очертания. В полутьме печка была похожа на маленький домик с сильно освещенными окнами. За ним как будто камин из белого мрамора, словно занесенный снегом. «А ведь я еще не написала Кристиану! Он, конечно, думает о том, что со мной случилось. Завтра я напишу ему подробное письмо…» Она не могла оторвать глаз от блестящих слюдяных окошек. Внутри, наверное, было так тепло, так хорошо! Яркий огонь. Кровать, покрытая покрывалом из шкурок сурка… Две руки, протянутые к камину. Профиль улыбающегося дьявола. Она вдруг захотела его до боли, до крика. В животе что-то шевельнулось. Сухие губы встретили пустоту. «Почему, но почему я думаю о нем с такой силой, с такой болью, хотя уверена, что больше не люблю его?»
Мази приподнялась на подушках. Ей было жарко. Она пыталась расстегнуть свою фланелевую рубашку. Элизабет подбежала к ней и, не позволяя этого сделать, обтерла ее лицо салфеткой и накрыла одеялом.
— Пить…
— Вот, Мази, — сказала Элизабет, протягивая ей чашку.
— Мне мешает складка на простыне, вот здесь.
— Сейчас поправлю, Мази.
— Кто-то стучал?
— Никто…
— Мне показалось…
И снова гробовая тишина. Дождь перестал. За тяжелыми бордовыми шторами тихо шумели ветви деревьев. Здесь же не было никакого движения, ничто не менялось. Время обходило эту комнату стороной. Элизабет казалось, что она навеки уселась перед кроватью с балдахином, в которой лежала умирающая королева. Часы тикали все громче и громче. Двадцать минут второго. Элизабет сомкнула веки и увидела короткий сон, но через пять минут она снова встрепенулась и снова склонилась над больной. Дыхание Мази было относительно спокойным. Печка все так же потрескивала в своем углу. Элизабет снова задремала. Но едва она закрыла глаза, как кто-то тихо дотронулся до ее плеча. Она подскочила. Перед ней стояла мадам Монастье. Часы показывали четыре часа утра.
— Я пришла пораньше, потому что мне все равно не спалось. Все нормально?
— Да, мама.
— Тогда поскорее идите спать, дитя мое! Вам это просто необходимо!
От неудобной позы ноги Элизабет затекли. Она медленно встала, чувствуя себя совершенно разбитой физически, и еще потому, что она ничего не сделала для того, чтобы Мази стало лучше. Выйдя в коридор, Элизабет вдохнула свежего ночного воздуха, который ей показался таким здоровым после того, которым она надышалась в комнате больной Мази.
Услышав шаги жены, Патрис тотчас же проснулся и включил ночник.
— Что? Как Мази? — воскликнул он. — Мази?
— Все хорошо, дорогой. Она задремала, — ответила Элизабет.
Канарейки заволновались в своей клетке, затем, успокоившись, умолкли. Фрикетта открыла глаза, но положив голову на лапы, снова заснула на своей подушечке.
— Уже так поздно — продолжал Патрис. — Ты, наверное, едва держишься на ногах, моя любимая. — Элизабет разделась и прямо-таки рухнула рядом с ним в широкую и теплую постель. Он обнял ее. Она ощутила тепло этого мужского тела. Она чувствовала себя такой усталой, такой разбитой, неспособной к малейшему сопротивлению, к тому же она не в силах была бороться со своими инстинктами.
— Милая моя, дорогая моя, любимая, — повторял Патрис, поглаживая ее по волосам.
Он ласкал ее нежно, не возбуждая. Она взяла его руку и приложила к своей обнаженной груди. Он понял, наклонился над ней и поцеловал в губы. Элизабет стонала, извиваясь в животной страсти. Все ее существо протестовало против смерти. Наконец Патрис снял свою пижаму и накрыл ею лампу у изголовья.