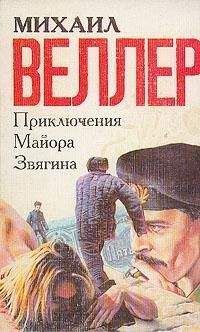Лиза Альтер - Непутевая
…В больнице она застала мать, пишущей письмо. Глаза блестели, лицо выглядело не таким одутловатым.
— Привет, — сказала она и улыбнулась.
— Привет! — Джинни наполнила банку водой и поставила цветы на тумбочку. Она была очень довольна, что догадалась проявить инициативу.
— Спасибо, дорогая, — удивленно поблагодарила мать. — Они чудесны.
— Правда?
— Хотела бы я их понюхать!
— Понюхаешь, не успеют и завянуть, — успокоила ее Джинни.
Мать безмятежно кивнула.
Кто-то оставил мамину амбулаторную карточку. Джинни открыла последнюю страницу: тромбоциты — сто десять тысяч единиц в кубическом миллиметре, время свертывания — шесть минут.
— Фантастика!
— Да, конечно. Я чувствую себя так, будто все страшное позади.
— Ну-ну, не сглазь! Смотри-ка, часы идут! Они ведь вчера отставали?
— Не помню. Мистер Соломон что-то сделал с пружиной, и все в порядке. Знаешь, он — удивительный человек. Почти ослеп из-за своей катаракты, но правильно поставил «диагноз» и починил часы. Сказал, что они изумительные. Немецкие. Не представляю, как расстанусь с ними. Они достались мне по шотландско-ирландской линии в нашей семье.
— Я знаю. А те часы — в холле — по-моему, голландские?
— Да. Но я не думала, что ты слушала мои рассказы.
— Рада была бы не слушать, мама. Ты столько рассказывала о своих предках, что хочешь не хочешь, все запомнишь.
— По-моему, это неплохо.
— Это по-твоему.
— Это была не моя инициатива. Вы, дети, вечно заставляли показывать вам фотографии и рассказывать, как они жили и умерли.
— Мы? Ты единственная тряслась над своими предками и упражнялась в некрологах и расписаниях похорон.
— Прости, дорогая, но ты ошибаешься. Вас — особенно тебя — постоянно преследовали обиды, падения, ожоги. Я не знала, как уберечь тебя и что делать или не делать, чтобы воспитать в тебе храбрость и одновременно осторожность. В конце концов я пришла к выводу, что ты такая неприкаянная потому, что отец оставил тебя в двухмесячном возрасте и ушел на войну. Ты слишком рано стала самостоятельной.
— Я помню все иначе. Помню, как ты всего боялась. «Береженого Бог бережет», «Ты упадешь с мотоцикла, дорогая, и на тебя наедет другой мотоцикл», — передразнила Джинни.
— Тебя всегда очень интересовала смерть, — продолжала мать. — Ты задавала массу вопросов: «Почему человек умирает?», «Почему Бог допускает это?», «Умрет ли он?», «Есть ли у него жена и дети?», «Умру ли я?», «Когда умрете вы с папой?», «Что будет со мной, когда я останусь одна?», «Достанется ли мне папина машина?» И так без конца. В конце концов нам с папой становилось смешно, а ты плакала и обвиняла нас в том, что нам все равно, умрешь ли ты.
Ты помнишь, как уговаривала меня раскопать тела кошек, собак и птиц, которых мы хоронили в углу двора? Ты хотела увидеть, что с ними стало.
— Нет, мама, — недоверчиво покачала головой Джинни. — Нет. Это ты твердила о смерти. Ты ночи напролет сочиняла эпитафии и некрологи. И каждое лето таскала нас на кладбище приводить в порядок могилы.
— Не преувеличивай, дорогая. Конечно, меня все это интересовало, но что здесь необычного? Люди хотят быть уверенными, что их желания в точности выполнят, и возвращаются к этому, если что-то изменится. В конце концов, близкие могут растеряться, столкнувшись со смертью. Откуда у тебя эти странные мысли?
— Не знаю… А надгробные памятники? Признайся, что ты таскала нас черт знает на сколько могил!
— Я бы не сказала, что их было много. Памятники больше интересовали меня с художественной точки зрения.
Кто из них прав? Почему они помнят об одном и том же так по-разному?
— Что с твоими птенцами? Они еще живы?
— Да. Я их покормила. Я нашла ту книгу. Ее написал Бердсалл. Он советует убить птенцов, если найдешь. Я накормила их гамбургерами, и они до сих пор живы.
— Странно… — хмуро ответила миссис Бэбкок.
— Конечно. Но мне пришло в голову, что то, что происходит в лаборатории, отличается от реальной жизни. Бердсалл пишет, что они едят только пережеванную родителями пищу, но моим птенцам придется научиться переваривать другую еду. Похоже, они ее усваивают. Ты согласна?
— Конечно. Попробуй дать им яблоко. Натри на терке. Я читала в энциклопедии.
После обеда они снова смотрели «Тайные страсти».
— И на что нам это нужно? — снисходительно улыбнулась мать. — Подумать только, сколько классики я не прочитала!
— Мы все на этом крючке.
— Да. Но мне действительно неинтересно, что случится с этими персонажами.
— Ну, ну, мама. В душе мы с тобой бессовестные сплетницы.
— Что ж, притворимся, что нам просто любопытно, почему миллионы американок каждый день приникают к телевизорам.
— Ладно.
В этот день серия была покороче. Фрэнк обнаружил, что отец его ненаглядной дочки — двоюродный дядя зятя его жены и что она до сих пор встречается с ним и принимает от него подарки. В душещипательной сцене он выгнал Линду из дома и запретил видеться с дочкой. У Джинни внутри все оборвалось.
— Знаешь, — сказала она во время рекламной паузы, — я возмущена. По-моему, этот Фрэнк прекрасно знал, что Марти — не его дочь.
— Откуда? Ему это и в голову не приходило.
— А тебе не кажется, что он переборщил с Линдой?
— Почему?
— Неужели секс — самое главное? Стоит ли так суетиться?
Миссис Бэбкок задумчиво посмотрела на дочь.
— Секс вне брака вульгарен, дорогая.
Джинни не успела возразить: фильм продолжился, и они замолчали. Целых полчаса Фрэнк пытался объяснить своей трогательной дочурке, что ее мама уехала навсегда. Джинни до слез тронули детская недоверчивость и страдания, тем более что она знала из психологии: ранняя утрата любящей матери предрасполагает человека к депрессии в зрелом возрасте.
— По-моему, — грубо сказала она, — ребенку в этом возрасте плевать, кто его настоящие родители.
— Детям необходима мать, — ответила миссис Бэбкок.
— Черт побери! И не только одним детям! — крикнула Джинни.
Вечером она направилась по знакомой тропинке в летний домик. Она шла рядом с Клемом, Максин — сзади. Снаружи домик ничуть не изменился. Дверь была заперта на замок и цепочку, но теперь над ней висела вывеска «Святой Храм Иисуса». У двери толпились человек шесть. Джинни никого не знала. Скорей всего это были фермеры с окрестных ферм. Они были одеты в отутюженную темнозеленую рабочую одежду и аккуратно причесаны. Некоторые принесли инструменты в футлярах. На женщинах были пестрые платья, носочки и платки. К Клему и Максин они обращались с почтением: «Сестра Клойд», «Брат Клойд». С тех пор, как сгорела ферма Свободы, Джинни не слышала, чтобы люди так называли друг друга. Брат Клойд представил ее как своего старого друга. Она поняла: он верит, что она не расскажет «сестрам» и «братьям», чем занимались они на полу Святого Храма почти десять лет назад.
Сегодня Джинни принарядилась: надела свое крестьянское платье и даже намочила волосы в тщетной попытке немного их пригладить.
На каменном полу в несколько рядов стояли грубые скамьи, а перед ними — помост. Мебель была та же — Клем сделал ее в детстве, — но книжные полки заставлены не душещипательными романами, а потрепанными сборниками церковных гимнов. Маленький столик, на котором она сидела перед отъездом в Уорсли, превратили в алтарь, накрыв белой скатертью с бахромой. Над ним на стене висел простой деревянный крест. По каменному желобу все так же струилась прохладная вода.
Джинни села в последнем ряду и постаралась не привлекать к себе внимания, хотя на нее и так никто не смотрел. Она не переставала удивляться Клему. Дело даже не в его выздоровевшей ноге; она помнила его угрюмым, патологически грубым, а теперь он стоял в дверях домика и приветливо улыбался прихожанам. Совсем другой, уверенный в себе человек, уважаемый фермер, отец семейства, пастырь своей паствы. Джинни знала, что люди меняются, но чтобы до такой степени? Клем — пример того, что для человечества еще не все потеряно.
Трое мужчин достали гитару, контрабас и барабаны. Кто-то благоговейно поставил на алтарь большой черный ящик. Собралось человек двадцать. Максин стояла на помосте — точно так же, как стояла много лет назад в «Ведре крови» и пела «Когда моя боль обернется стыдом»… В свете керосиновых ламп поблескивал затерявшийся между огромными грудями крестик.
Постепенно песню подхватили все. Прихожане прихлопывали, пританцовывали и даже кричали под музыку «Да, Господь!» и «Любимый, любимый Иисус!»
Ритмичные хлопки словно загипнотизировали Джинни. Она тоже начала подпевать и хлопать, и совсем не из вежливости. Сначала просто не хотела обидеть Клема и Максин, но потом и ее захватил наэлектризованный поток эмоций.
Женщина рядом упала на пол, судорожно задергалась, что-то забормотала, но Джинни не испугалась. Она пела и хлопала с тем же восторгом, как и все остальные.