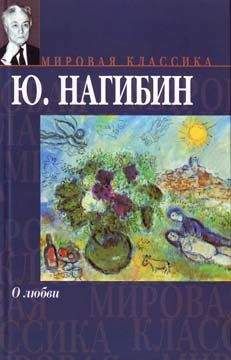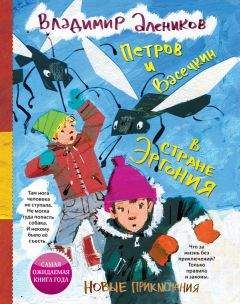Дэвид Лоуренс - Белый павлин. Терзание плоти
— Не знаю, — ответил он.
— Все ждут вас к чаю, — сказал я.
Он слышал меня, но никак не реагировал. Я повторил:
— Мег и все твои ждут вас к чаю.
— Мне ничего не нужно, — сказал он.
Я подождал одну-две минуты. Ему явно было очень плохо. «Vae meum Fervens difficile bile tumet jecur»[27], — подумал я про себя. Пока он понемногу приходил в себя, то стоял возле столба и дрожал. Его веки тяжело опустились. Он смотрел, щурясь, на меня и улыбался болезненной улыбкой.
Он повиновался мне, не тратя сил, не теряя времени на вопросы. Его вообще оставили силы. Он передвигался неуверенно, озираясь по сторонам.
Мы зашли в сарай. Я подождал, пока он вскарабкался на сеновал. Потом пошел в дом, чтобы объясниться перед его родными, уже сидевшими за столом.
Сказал, что Летти обещала быть к чаю в Хайклоузе. А у Джорджа что-то не в порядке с печенью. Сейчас он на сеновале приходит в себя. Мы пили чай без особого удовольствия. Мег была задумчива и тоже плохо себя чувствовала. Отец много разговаривал с ней. Мать же почти не обращала не нее внимания, погруженная в свои думы.
— Не могу понять, — сказала мать. — Он так редко болеет! Ты уверен, Сирил, что Джордж занемог? Ты не шутишь? Надо же такому случиться, именно когда Мег пришла к нам в гости!..
В половине седьмого я поднялся из-за стола, чтобы снова посмотреть на него и заодно успокоить мать и возлюбленную. Я вошел, насвистывая, чтобы он знал, кто это.
Он лежал на сене и спал. Чтобы сено не кололось, он подложил кепку под голову, храпел во сне. Он все еще был бледен. На нем не было пиджака, и я побоялся, как бы он не простудился. Я накрыл его мешками и ушел. Не хотел больше его беспокоить и решил помочь его отцу управиться в коровнике и со свиньями.
Мег должна была уходить в половине восьмого. Она была так расстроена, что я сказал:
— Пойдем, посмотрим на него… я разбужу его.
Он сбросил с себя мешки, раскинул руки и ноги. Он лежал на спине, растянувшись на сене, и снова казался таким большим и мужественным. Рот полуоткрыт. Лицо обычное, спокойное. Жалко было будить его.
Она склонилась и посмотрела на него с любовью и нежностью. Потом погладила его. И тут он почесался и открыл глаза. Она вздрогнула от неожиданности. Он сонно улыбнулся и промурлыкал:
— Хэлло, Мег!
Я наблюдал его пробуждение. Он вспомнил, что с ним произошло, вздохнул, лицо снова приняло скорбное выражение. Он опять повалился на сено.
— Пойдем, Мег, — прошептал я. — Ему бы лучше поспать.
— Я накрою его, — сказала она, взяла мешок и очень ласково укрыла ему плечи. Он лежал совершенно спокойно и выглядел таким отрешенным, когда я увел ее.
Глава VII
ПОЭМА О ДРУЖБЕ
Обещание чудесной весны было нарушено еще до того, как полностью отцвел май. В течение всего этого весеннего месяца задувал сильный то северный, то северо-восточный ветер, принося с собой неистовый холодный дождь. Покрытые нежными почками деревья дрожали и стонали. Когда ветер дул потише, молодая листва хлопала, щелкала. Трава и злаки росли пышно, но свет от одуванчиков угас. Казалось, это было давным-давно, когда мы веселились среди желтого раздолья, зачарованные этими цветочками. Колокольчики тоже все умирали и умирали. Они покрывали поляны, словно символ скорби. Розовые лихнисы, казалось, появлялись только для того, чтобы тяжело поникнуть под дождем. Бутоны боярышника оставались сжатыми и твердыми, как жемчужины, прячась среди бриллиантово-зеленой листвы. Незабудки, бедные звездочки леса, были забиты сорняками. Часто в конце дня небо очищалось и огромные облака повисали над горизонтом где-то бесконечно далеко отсюда, посверкивая на расстоянии янтарным блеском. Они никогда не приближались. Всегда держались особняком, спокойно и величественно взирая на намокшую землю, потом, словно опасаясь, что их сияние может потускнеть, уплывали и пропадали с глаз долой. Иногда на закате облачная пелена ползла с запада к зениту, поглощая свет. Этот своеобразный балдахин с подсвеченными краями рос, поднимался все выше, ломался, распадался, и небо приобретало оттенок первоцвета, высокое и бледное небо с хрустальной луной. Тогда скот припадал к земле, напуганный холодом, а длинноклювые бекасы мерцали высоко над головой, кружили и кружили, как будто горло им обвила змея, отчаянно крича на просторе, их пронзительный зов был куда горше, чем жалкий протест чибисов-пигалиц. После таких вечеров наступали холодные и серые утра.
Вот в такое утро я и отправился к Джорджу на верхнюю пашню. Его отец развозил молоко, он был один. Когда я поднялся на холм, то увидел, что он стоит в телеге и оглядывает голые красные поля. Я слышал его голос, понукавший кобылу, скрип его телеги. Умненькие и хитренькие трясогузки быстро бегали по черным комьям. Туда-сюда сновали, взлетали, уносились и снова садились на землю разные мелкие птахи. Чибисы-пигалицы кружили с криком среди низких облаков, а их собратья весело бегали между бороздами, слишком грациозные для этого необъятного грубого поля. Я взял вилы и стал разбрасывать навоз. Так мы работали посреди пашни. Над нами кружили тучи чибисов. А еще выше были настоящие тучи, прямо у нас над головой. Внизу, в роще (мы работали на вершине холма), виднелись верхушки черных тополей. Они отливали теплым золотым цветом, и сквозь них словно проступала кровь. Дальше, на горизонте, блестела серая вода, а еще дальше — красные крыши. Неттермер был наполовину скрыт от нашего взора, он находился слишком далеко. Никого больше не было в этом сером одиноком мире, кроме чибисов-пигалиц, круживших с криком в поднебесье, да молчаливо работавшего Джорджа. Эта естественная жизнь полностью завладела моим вниманием, а когда я поднимал глаза, то видел размеренные движения его тела и взмахи рук, наклоны головы, а также замедленный полет чибисов. Через некоторое время, когда телега опустела, он взял вилы и пошел ко мне, чтобы помочь.
Начинался дождь, поэтому он прихватил мешок из телеги, и мы устроились под изгородью. Сидели рядом и смотрели на идущий дождь, который, точно серый занавес, закрыл от нас долину. Мы видели, как темные струи стекали по спине кобылы, терпеливо стоявшей под дождем. Слушали шум падавших капель, ощущали холод дождя и молча сидели. Он курил трубку, я зажег сигарету. Дождь продолжался. Маленькие лужи на красной земле отливали стальным блеском. Мы сидели и время от времени разговаривали. Именно в такие минуты между нами складывались близкие, дружеские отношения, которые позднее, с годами, утратились.
Когда дождь кончился, мы наполнили ведра картошкой и побрели вдоль мокрых борозд, засовывая клубни в землю. Песчаная земля быстро становилась сухой. Около двенадцати часов, когда вся картошка была посажена, он оставил меня и забрал Боба, привязанного к дальней изгороди, запряг его и кобылу в плуг, чтобы пройтись разок и прикрыть картофель землей. Острый легкий плуг оставлял после себя симпатичные борозды на поле.
Птицы летали, порхали следом за плугом. Он подхватил лошадей под уздцы и направился вниз по холму. Белые звезды на коричневых мордах кивали, прыгали вверх-вниз. Джордж крепко держал их. Они прошли мимо меня. Окриком он остановил их. Они неуклюже развернулись. Он подправил плуг, и они снова двинулись вверх по холму.
За ним вдоль новой борозды летали, суетились птицы. Затем мы распрягли лошадей, когда все посадки были засыпаны землей, и стали спускаться вниз по влажному склону холма, чтобы пообедать дома.
Я путался ногами в высокой траве, наступая на увядший первоцвет, стараясь не сломать прекрасные пурпурные орхидеи[28]. И вдруг почувствовал, что у моих ног шевелится что-то живое. Я обнаружил гнездо жаворонков, увидел желтые клювики, закрытые выпуклыми веками глазки двух малюсеньких птенчиков с синими перьями на крыльях. Они сидели бок о бок, клюв к клюву и быстро дергали головками вверх-вниз. Я нежно прикоснулся к ним пальцем. До чего же тепленькие! Приятно, что они теплые, в то время как вокруг сыро и прохладно. Я смотрел на них, а вокруг дул ветер. Когда один неосторожно двинулся и выпал, я сперва испугался за него, но он тут же угнездился на место рядом со своим братиком.
Мне стало холодно, а сирень в саду у мельницы голубела так гостеприимно. В своих тяжелых сапогах я помчался вниз, к мельнице, мимо раскачиваемых ветром сикомор, мимо угрюмых сосен. Сосны грустили потому, что миллионы их розовых семян не могли лететь, потому что их крылышки намокли. Конские каштаны храбро вздымали вверх свои свечи на каждой ветке, хотя и не было солнца, чтобы осветить, зажечь их. Замерзший лебедь медленно поплыл по воде, размахивая большими крыльями, раскачивая испуганных белых шотландских куропаток и оскорбляя своим поведением степенных черношеих гусей. А что, собственно, нужно мне, отчего я бросаюсь все время от одного к другому?