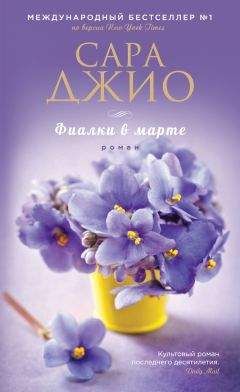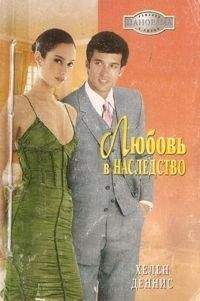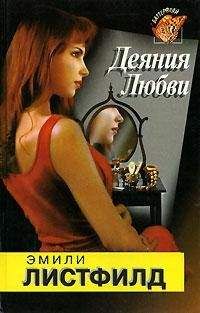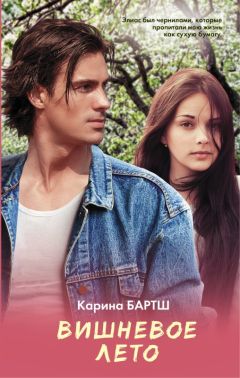Джулия Баксбаум - Ненависть
— Значит, ты утверждаешь, что все дело здесь в силе напора, — говорю я. — Намного труднее спорить с бессодержательными высказываниями, чем с конкретными. Здесь невозможен компромисс без сдачи позиций.
— Точно. Я имею в виду, весь фокус в том, чтобы говорить, ничего не сказав. Все искусство заключается в этом.
— Говорить, ничего не сказав?
— Да, говорить, ничего не сказав.
— Я это умею.
* * *— Черт, что вы так долго, ребята? — спрашивает дедушка Джек, когда мы заходим к нему в комнату в «крыле постоянного ухода». Он сидит в кресле и листает старый номер журнала «Нэшнл Джеографик» с фотографиями полуобнаженных туземных женщин. По случаю праздника нянечек сейчас мало, и место выглядит пустынным. Люди махнули на все рукой, собрали свои вещи и убыли либо домой, либо на небеса. Дедушкино резкое приветствие — неважное вступление к нашему визиту. Возможно, я слишком большая оптимистка, если надеюсь, что день пройдет хорошо.
— Привет, дедушка Джек, — говорю я и чмокаю его. Сиделка, которую я наняла для ухода за дедушкой, вскакивает на ноги, смотрит на свои часы, потом — на меня. Я кивком разрешаю ей идти, но я настолько расстроена, что забываю поблагодарить ее и спохватываюсь только тогда, когда она уже стоит в дверях.
— Привет, папа, — говорит отец и пожимает дедушке руку.
— Где вас, черт возьми, носило, ребята? — спрашивает дедушка, отмахиваясь от наших приветствий. — У нас было заказано на 5:30.
Отец делает шаг назад и отворачивается, чтобы не встречаться глазами со мной или с дедушкой. Мгновенно становится ясно, что он не навещал своего отца уже очень-очень давно. Этот дедушка Джек — новый для него, с кожей, слишком натянутой на губах, и тонкой, как пергамент, на скулах, витающий в мире иллюзий под хруст, треск и щелканье синапсов[44] из-за осечки нейронов. У дедушки Джека сейчас изъеденная временем плоть, опухшие веки и испуганное лицо человека, который живет слишком долго.
— Прости. Мы задержались. Но сейчас, впрочем, все в порядке. Мы можем отпраздновать День благодарения прямо здесь, — говорю я. Мой тон слишком приподнятый, и от моего фальшивого энтузиазма напряжение в комнате, кажется, только возрастает.
— А как же шоу, Марта? — спрашивает дедушка Джек. При упоминании о его матери, которая умерла, когда я еще носила подгузники, отец закрывает лицо руками. Ее имя на долю секунды заставляет меня усомниться в реальности: а может быть, мы все находимся в одном величайшем заблуждении? Но, разумеется, это всего лишь какой-то химический всплеск моих личных надежд.
— Мы не идем на шоу, дедушка. Но у нас на обед будет индейка. Стол уже накрыт внизу.
Отец ловит мой взгляд и делает мне знак выйти.
— Мы сейчас придем, дедушка. — Это чтобы он не испугался, что все его бросили. Не важно, за кого он нас принимает; просто я не хочу, чтобы он подумал, что его оставили одного.
Мы с отцом выходим из комнаты в коридор, очень напоминающий больничный. Здесь все белое, пахнет антисептиком и отовсюду торчат всякие электронные хреновины. От стен эхом отражаются бестелесные звуки: стоны стариков, ворочающихся в своих постелях. На посту медицинских сестер за полукруглой стойкой из пластика сидит женщина в голубой униформе хирурга и копается в промасленном бумажном пакете из «Макдоналдса». Я мысленно отмечаю, что нужно бы пригласить ее на праздничный обед, который мы накрыли внизу. Я планирую сделать это не для нее, а в первую очередь для нас.
Отец берет меня за локоть и уводит дальше по коридору в укромный уголок, где стоят два стула и торговый автомат. Это такое место, где люди обычно делятся плохими новостями.
— Что случилось?
— Ты что, блин, специально разыгрываешь меня? — спрашивает отец, направляя мне в лицо свой длинный палец, чтобы показать, насколько ему больно.
«А он тоже обкусывает свои ногти, — отрешенно отмечаю я, — никогда раньше за ним этого не замечала».
— Это такой дурацкий розыгрыш, блин? — На этот раз он вопит уже срывающимся от ярости голосом. Еще ни разу при мне отец не произнес слово «блин». Ни разу, за всю мою жизнь. Он также никогда не орал на меня, даже несмотря на то, что, будучи подростком, я его постоянно на это провоцировала. Происходящее для меня весьма необычно и не сказать, чтоб неприятно. Впрочем, ситуация определенно должна смущать, и я вижу, что он тоже озадачен своими грубыми словами. «Неужели мы все здесь посходили с ума? Может, это коллективное короткое замыкание Праттов?»
— Что?
— Почему ты мне не сказала, что он такой? Почему ты не сказала, что ему стало настолько плохо? — Кулак моего отца бьется в белую стену, и костяшки пальцев царапаются о штукатурку.
— Я говорила тебе. — На меня накатывает волна изнеможения, которая борется со злостью, закипающей где-то глубоко. — Я говорила тебе, — снова повторяю я, но теперь уже шепотом.
— Нет, не говорила. Ты мне не говорила, что с ним произошло такое. — Теперь у него тон капризного ребенка. Это уже не тот энергичный мужчина, с которым я была на ленче и которого так радушно принимали в загородном клубе буквально все. Сейчас он выглядит испуганным и потерянным, как малыш, который ждет, когда его мамочка скажет ему, что все будет хорошо. Забавно, но я чувствую себя точно так же.
— А как, блин, по-твоему должна выглядеть болезнь Альцгеймера, папа? Ты бы мог увидеть это своими глазами в тот день, когда дедушка потерялся. Если бы удосужился мне перезвонить. Или, возможно, ты мог бы поехать к невропатологу и переговорить с врачом лично. О да, я знаю, ты мог бы выделить время из своего долбаного расписания по руководству этим хреновым Коннектикутом, чтобы заехать сюда как-нибудь в другой раз.
Я останавливаюсь, чтобы перевести дыхание.
— А может быть, ты был слишком занят тем, что трахал свою Анну?
Я кричу на него с таким напором, что мой отец отступает назад, отброшенный моими словами как физическим ударом. Но я еще не закончила. Пока еще нет. Ярость выплескивается наружу вместе с жестокими словами, словно у меня неизвестная разновидность желудочного гриппа.
— И почему это, блин, я во всем виновата? Почему я должна нести за все ответственность? Он — твой отец. Он — и твоя семья тоже. Или ты думаешь, что мне это легко? — Я уже кричу, насколько хватает голоса, пока в горле не начинает першить. Пока не становится больно. — Знай, это не так. Это не легко. Как ты посмел? — спрашиваю я, потому что уже не знаю, что бросить ему еще.
Я сама шокирована мощью своего взрыва, и он быстро рассеивается, не оставляя за собой никакой остаточной злости — только всепоглощающую усталость. Я сползаю по стене, пока не опускаюсь, скорчившись в позе эмбриона. Я обхватываю колени и опускаю на них голову. Я слышу звуки рыданий и не сразу понимаю, что исходят они от меня самой. Такое сочетание слез с воплями является беспрецедентным, и мы с отцом оба чувствуем неловкость от того, что настолько отклонились от сценария. Некоторое время мы молчим, взяв перерыв, чтобы напряжение немного ослабло.
В итоге отец садится на пол рядом со мной; оба мы вытираем пыль своими черными костюмами, и обоим нам нет до этого дела. Он усаживается в той же позе, что и я, а потом кладет мне руку на плечи.
— Прости, — говорит он, и я вижу, что лицо у него тоже мокрое. — Я очень, очень виноват. — Папа обнимает меня, и мой сопливый нос оставляет отметину у него на рукаве. — Я не ожидал, что увижу его таким.
— Я знаю, — отвечаю я.
— Я просто ошеломлен.
— Я знаю, — повторяю я. Хотя он и мой отец, но он по-прежнему сын дедушки Джека.
Мы медленно возвращаемся в комнату, делая каждый шаг очень осторожно, словно это мы нуждаемся в «постоянном уходе». Когда мы проходим мимо поста медсестры, я вижу, что женщины там уже нет, и испытываю облегчение. После того что произошло, я уже не хочу приглашать ее на наш праздничный обед. Я хочу, чтобы мы остались только втроем.
* * *Во второй раз за сегодняшний день я ем индейку с пюре под клюквенным соусом, кое-как выделив в желудке место для нее. Дедушка, отец и я сидим за небольшим круглым дубовым столом в одном из отдельных кабинетов внизу. Еда сервирована в семейном стиле, но, поскольку работники фирмы-поставщика забыли оставить нам раздаточные ложки, мы накладываем свои порции из алюминиевых кастрюль каждый своим инструментом. Наши вилки оставляют полосатые следы на горках пюре.
Отец, хотя и подавлен, берет добавку, после чего предлагает вновь наполнить и наши тарелки. Он продолжает пристально смотреть на дедушку Джека, словно пытается на глаз определить ту точку, с которой все пошло так плохо. Или, может быть, он просто ищет подтверждение тому, что сидящий перед ним человек — по-прежнему его отец.
— Твой сын как-то заезжал меня навестить, — говорит дедушка Джек папе, когда тот поднимается, чтобы положить себе еще одну порцию яблочного пирога. До этого момента его иллюзии были своего рода путешествием во времени; если дедушка Джек говорил не с нами здесь и сейчас, он беседовал со своей женой и ребенком, какими они были пятьдесят лет тому назад. Я думаю, не этого ли нам следует ожидать от него в будущем. Полного отрыва от реальности.