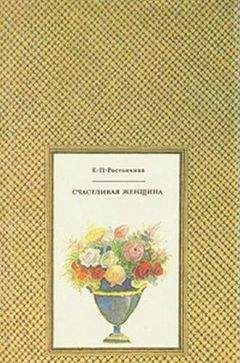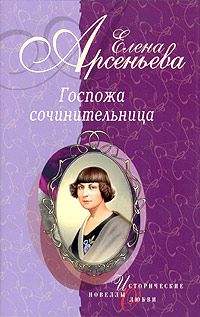Евдокия Ростопчина - Счастливая женщина
Сначала, в первые дни своего пребывания, Марина поселилась, как водится, в гостинице Herz-Herzoghurt, выходящей углом на главную улицу и на единственную площадь города. Должно думать, что тут некогда было подворье какого-нибудь монастыря, потому что все комнаты соединены и отделены одним общим коридором и каждая из них походит на келью, с своими глубокими окнами, изразцовою печью и маленьким альковом для кровати. Тишина и безмолвие царствуют в этих кельях, прерываемые только шумом и плеском фонтана, украшающего и оживляющего средину площади. В известные часы эти тишина возмущается мерным стуком многочисленных пешеходов, спешащих и бегущих по звонкому тротуару, потом по лестнице, наконец в столовых нижнего этажа. Это студенты, приходящие обедать за общим столом, и тогда к стуку приборов и стаканов присоединяется их шумный и веселый говор, их переклички, споры, перебранки, хохот, песни, иногда безумные пляски — все, чем выражается и прорывается кипучая удаль двадцатилетнего возраста. То же самое происходит и в соседних домах, ибо почти каждый из них точно такая же гостиница, где обедают, живут, любят, веселятся и учатся эти птенцы университетского гнезда. Вечером, когда темнота воцаряется над полуспящим городком и особенно если приходится сиять вдохновительной луне, этой любительнице и покровительнице швермерства, вечером вдруг раздаются стройные хоры молодых, звучных голосов и вы слышите знаменитые лидер, которых вкус и славу Германия распространила по всему миру, например, am Rhein, da wuchsen unsere Reben[13] или старинное, любезное gute Nacht, schlaf wohl![14] — которое и теперь еще так дорого красавицам и заставляет биться не одно белокурое сердечко под тафтяным фартучком и кисейною косынкой. Это серенады, которыми студенты чтят и празднуют своих возлюбленных, являясь дружными толпами под их окнами и пронося свои песни из конца в конец города, ко всем красавицам по очереди. Нередко случалось Марине оставаться у окна, внимая этим песням, и видеть, как где-нибудь — обыкновенно на самых верхних этажах, под самой кровлею — открывалось тихо скромное окошечко и высовывалась молоденькая головка, нежно кивая вниз с высоты своей — какая-нибудь Клэрхен или Минхен, которая с гордостью признавала в себе виновницу торжества и с радостью отличала среди поющих своего бурша, в бархатном кафтане, с удалым беретом набекрень. И сердце русской боярыни принималось болезненно трепетать, глядя на всю эту любовь, столь легкую и свободную, на все это счастье, столь доступное и живое… ей казалась завидна участь смиренных швей и кружевниц. Но если нечаянно один голос, грустнее или искуснее других, запевал какую-нибудь мелодию Шуберта, если знакомые и любимые звуки наводили на нее какое-нибудь далеко родное воспоминание… о! тогда горе больной! она всю ночь не смыкала глаз напролет, и молодость ее воскресала и билась в ней мятежно и страстно, возбужденная заразой чужой молодости, свободной и беспечной…
Но когда приехал Борис и было решено, что он останется с нею до ее выздоровления, когда графиня Текла стала сбираться в путь, то общим советом утвердили, что для больной надо приискать дачу за городом, на берегах благословенного Некара, в какой-нибудь из долин, чудно раскинутых вдоль живописного его течения, или на одной из гор, красиво зеленеющих вдали уступами виноградников и других фруктовых дерев. Таких дач, превосходно группированных, можно насчитать множество поблизости Гейдельберга. Большая часть из них отстроена из развалин старинных замков или на месте прежних монастырей; часто феодальные башенки обращены в новейшие жилища, и стрельчатые окна их выдаются над кущами растений и цветов, удачно посаженных около них в садах и палисадниках, роскошно благоухающих. Все это мило, свежо, уютно, заманчиво. Проезжая мимо этих усадеб и коттеджей, нельзя не поглядеть на них с завистью, нельзя не подумать, что в них живется легко и благополучно. Так и тянет к ним, так и хочется в них погостить.
Для Марины выбрали домик на горе, прямо против старого замка. Этот замок — целая чудная легенда, иссеченная в камне веками, людьми и событиями. Нельзя себе вообразить такое смешение странного и прелестного, артистически-прекрасного и прихотливо-изысканного. Здесь опустошение кокетливо хвастает развалинами и, вместо того чтоб представлять образ запустения и грустного ничтожества, оно заманчиво, оно одушевлено, оно возбуждает мысль о величии, о власти, которые некогда здесь обитали, о пирах и праздниках, которыми они услаждали свои досуги. На высокой и крутой горе, возвышаясь над необозримыми ландшафтами, стоят высокие строения разных веков и столь же различных архитектур, окружая двор, заросший дерном и даже целыми кустами, раскидисто цветущими себе на воле. Есть здесь древний замок тринадцатого века, рядом с ним великолепный дворец времен и вкуса Возрождения, а против них древняя церковь. С одной стороны двора, там, где некогда были конюшни и людские, стрельчатые своды и столбы поддерживают здание новейших времен, где теперь помещаются сторожа и учреждена маленькая гостиница для путешественников. А их немало перебывает здесь в год, потому что не только приезжающие издалека посещают беспрестанно эти чудные руины, но они всему околотку служат целию для шумных пикников и увеселительных поездок. Должно быть, эти толстые стены с их унылыми галереями принадлежали когда-нибудь монастырю или аббатству: от них так и веет мрачными тайнами отшельнических обителей и келий. Стройная, изукрашенная домашняя церковь баденских Гросс-Герцогов еще уцелела, так что и теперь в ней можно бы служить мессу; но комнаты Герцогов, которые возвышались над нею, совершенно разорены. Главный фасад дворца немного изысканного зодчества, как все памятники ему современные, означившие переход от древнеготического к стилю причудливого Возрождения; но несмотря на то, или даже, может быть, именно оттого, он отличается необыкновенною изящностью и нежностью в отделке подробностей. Кое-где существуют разные карнизы и украшения; по местам еще красуются в нишах своих, поддерживаемых витыми или резными столбиками, немногие статуи, замечательные по легкости и миловидности своей. Вензеля, гербы, аллегорические эмблемы, отчетливо выделанные в камне искусными мастерами тех терпеливых дней старины, картуши и волты, которые вдруг прерываются, чтоб дать пройти меж ними ветвистым побегам диких лоз или разным породам цветистого моха, любящего расстилаться по старым камням, — все это живописно перемешивается, висит, извивается и стелется по стенам, напоминая вместе и страстное искусство, которое создавало все эти чудеса, и дикий произвол судьбы, охотно разрушающий дело рук человеческих. Между тем сквозь чудно окаймленные оконницы исчезнувших окон открываются вдали виды близлежащих рощ и гор, или виднеются ясные полосы неба, утешительные и светлые напоминания вечности, гармонии, красоты непреходящей… Кое-где проглядывают из этих разрушенных, пустых оконниц вершины колеблющихся тополей и лип, которые кажутся любопытными головами, наклоняющимися изнутри замка, чтоб лучше видеть всю окрестность. Пред входом в церковь есть терраса, огражденная двумя разрушенными, но еще стройными башнями: там, верно, прохаживались голубоокие герцогини и задумчивые пфальцграфини, и оттуда смотрели они на подвластные им села и долины. Около развалин распространяется прелестный тенистый сад, доходящий уступами и скатами до прозрачных волн Некара, текущего под горой. И едва ли этот сад, заброшенный и заросший давно, не лучше теперь в своем беспорядке, чем он мог быть, когда его стригли и лелеяли, как придворную красавицу напоказ. По крайней мере, природа призрела и возобновила все, что люди ей предоставили; теперь этот парк полон тени и жизни, безмолвия и шума, вольных стай щебечущих, поющих птиц, и не менее суетливых, не менее болтливых детей и юношей, гуляющих в нем шумною гурьбою, вечно смеющеюся и вечно праздною. Кажется, будто здешнее народонаселение сдружилось с этими гостеприимными развалинами и гордится их красотою, как своею собственностью, щеголяя ею перед иностранцами.
Из широкого окна Марины была видна, как на ладони, вся эта восхитительная картина. И она пристрастилась к ней так, что утро и вечер заставали ее любующеюся и мечтающей пред этими каменными призраками романической старины. Она окружила себя всеми сказками, легендами и преданьями, которыми так обильны прирейнские местности, и скоро ее память затвердила все полуволшебные, полуисторические заги древней Германии. Здоровье ее видимо восстанавливалось, вместе с спокойствием ее души. Сначала Борис оставался жить в гостинице, куда возвращался каждый вечер, проведя день у выздоравливающей. Через несколько дней ему надоело пешеходствовать в потемках, иногда под дождем, и он переселился в соседство Марины, на холмах позади ее дома, где к счастью его нашлась наемная комнатка, с непременным и необходимым балконом. Этот балкон был так близок к крылечку Марины, что обоюдным обладателям того и другого можно было разговаривать, не возвышая почти голоса. Каждое утро, просыпаясь, соседка заставала соседа, ожидающего ее появления, и он перебрасывал ей свежий букет, нарванный и связанный им до ее пробуждения. Когда завтрак был подан или дамы собирались на прогулку, белый платок развевался перед их окном, возвещая спутнику и товарищу, что его ждут. Вечером, если Марина, отдыхавшая несколько минут после долгой прогулки, хотела дать знать Борису, что он может прийти к чаю и вечерней беседе, она зажигала лампу или свечу на своем балконе, и этот маяк служил условным зовом нетерпеливому собеседнику, который, счастливее древнего Леандра, не должен был переплывать Босфора, чтоб добраться до своей Геро. Прыжок в сад — и он был у нее!