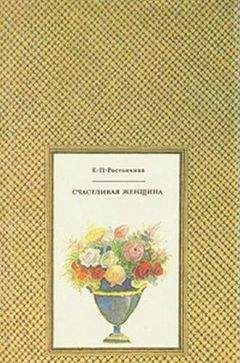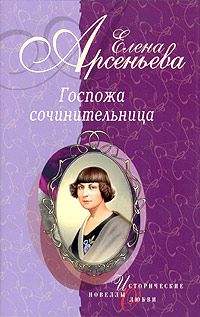Евдокия Ростопчина - Счастливая женщина
Ах!.. Это вы?.. как я рада! и прочие пустые фразы посыпались на них, и новоприбывшая, будто бы восхищенная встречей с ними, успела в минуту осмотреть их с ног до головы, осведомиться, давно ли они здесь, надолго ли, душевно порадоваться, что видит их веселыми и довольными, предложить им видаться как можно чаще, и сообщить им, что она пробудет с неделю в Гейдельберге, чтоб посоветоваться с докторами о здоровье своего мужа, которого она так обожает, что предприняла это путешествие, так как ни на минуту не может с ним расстаться. Покуда она говорила, обоим слушающим было неловко; оба замечали ее злобную гримасу и пытливые взгляды; оба предвидели, как эта встреча впоследствии породит им много неприятностей, и заранее знали, какие потоки красноречивых описаний и сплетен появятся из-под пера опасной путешественницы в хранилище зеленой гостиной. Марина, очень мало и только издали с ней знакомая, отклоняла учтиво, но холодно все вопросы и предложения, извиняясь своим нездоровьем; Борис, обязанный оказывать уважение другу дома его матери, кланялся очень много, говоря очень мало. Через четверть часа соотечественница оставила их, чтоб обратить свое внимание на форели и продолжать осмотр гейдельбергских примечательностей. Они возвратились домой, но теперь ни окрестные виды, ни чудное утро не могли их развеселить; оба шли молча, потупя голову и взор, оба проклинали докучливую встречу: он боялся доноса на него и потом упреков своей матери; она понимала, что в нем происходило и боялась за их взаимное спокойствие.
Ни тот, ни другой не обманулись.
Едва милая соотечественница успела добраться до своей гостиницы, как села писать ко всем своим петербургским приятельницам и подробнее всех к Ухманским: рассказала, как она встретилась с бедным Борисом и этою безнравственною, кокетливою Ненскою, как и где она их застала, как Ненская была одета, как она весела, как торжествует, что успела похитить сына у несчастной матери, как ее собственное сердце, истинно преданное друзьям своим, вчуже обливается кровью при виде такого богопротивного соблазна, и много еще прочего, тому подобного. Вы спросите, может быть, зачем и ради чего она так хлопотала и распространялась об этом предмете? чем ей мешали наши скромные гейдельбергские отшельники? какую выгоду могла она найти, вредя им?.. Боже мой! за кого же вы ее принимаете?.. разве она способна из чего-нибудь и ради собственного своего интереса чернить другую женщину?.. Нет, она выше таких низких побуждений!.. Нет! она имеет в виду одну мораль, одно приличие! Она заступается вообще за добродетель и нравственность, которым крайне обидно и предосудительно, что люди, утомившись задыхаться в светских сходбищах и в переполненных залах, пошли себе дышать чистым воздухом в живописной стране, что они сидят на берегу Некара, созерцая и наслаждаясь, что они могут довольствоваться природою и собственною жизнью души и молодости, не нуждаясь в забавах и шуме, необходимых другим организациям… Она и не воображает вредить кому бы то ни было!.. Она так добра!.. так благовоспитанна!.. Как вам не грех ее подозревать?..
А Борис был как ребенок, которого испугали во сне, в чудесном золотом сне, сладко его укачавшем и ублажившем райскими грезами и восхитительными видениями… Он очнулся, но не вполне и в просонках еще ищет то, чем за минуту был так счастлив и так очарован. Появление враждебной говоруньи имело на него влияние Медузиной головы: он был поражен. Он припомнил вдруг и вечные сплетни насчет его и любимой им женщины, и длинные увещевания матери, и бесконечные филиппики сестер… Он был перенесен вдруг в зеленую гостиную и предоставлен всем ее ласковым ужасам…
Мы уже сказали и теперь должны на том настоять, что главным, что единственным недостатком, затмевавшим блестящие качества и светлую, любящую натуру Бориса, была его несамостоятельность и слабость. Воспитанный в рабском страхе людского мнения, он боялся его, как привидения, инстинктивно и бессознательно. Этот рыцарь по душе, который не пощадил бы жизни для своей возлюбленной, не смел держать ее сторону, когда, для того чтоб вернее нападать на нее, умели искусно напугать его вымышленным восстанием против него светского мнения. Он был совершенно подчинен мнимой власти этого несуществующего, но всегда призываемого на суд и выставляемого судилища света, этого условного и ложного судилища. Он был готов всегда послушаться этого мифического, но по несчастью столь сильного общего мнения, которому не верят внутренно те самые, кто всех громче кричат о нем. Общее мнение, страшилище, которым пугают семнадцатилетних ветрениц и неопытного новичка юношу; общее мнение, всегда готовое оправдать и обелить того, кто побогаче, посильнее и посмелее; общее мнение, мираж чудовища, пугающий издали близоруких, но исчезающий легче дыма при хладнокровном воззрении, по мере того, как к нему подходишь ближе; общее мнение было одним из заблуждений Бориса — он верил в него и этим доверием действовали искусно и удачно на отуманенный им разум человека, во всем прочем столь ясно и верно рассуждающего. Если бы Борис был самостоятельнее и тверже, много горя избегнул бы он для себя и для Марины.
Вечером, когда Марина зажгла призывную лампу на балконе и поджидая Бориса села за фортепиано наигрывать любимые его мотивы из новейших опер, он долго не приходил, и русский самовар тщетно прождал его на столе. Послано к нему узнать, отчего он не идет, — его не было дома. Мариня догадалась, перестала играть и, грустно облокотясь, впала в глубокую задумчивость… Она спрашивала себя, долго ли еще продлится ее воскресшее счастье? Она чувствовала, что на него черным крылом повеяла ночная птица, предвозвестница зла и горя…
К одиннадцати часам пришел наконец Борис, расстроенный и грустный. Он извинялся в своем отсутствии визитом, который принужден был сделать приезжей барыне. Марина ни о чем не хотела расспрашивать. Расставаясь, он поцеловал ее руку неяснее и грустнее обыкновенного…
На другой день отходила почта в Россию: она робко ему о том напомнила; он ответил, что уже написал…
Дня через два, открывая ящик стола, чтоб достать какую-то книгу, она увидела незапечатанное письмо… Это было то самое, которое Борис в пароксизме любви и увлечения приготовил для матери своей, чтоб сказать ей, что он едет в Ниццу… Да! то самое письмо, в котором так пламенно сквозь завесу приличия и недоговоренных слов выразилось тогдашнее состояние его души, то самое, за которое она так неясно его благодарила. Письмо не отослано! Стало быть, вместо него написано другое?.. Стало быть, он переменил свои намерения?.. Ужели он с нею не поедет?..
Ее кольнуло в сердце… Знакомая боль, боль прежних мучительных дней борьбы и сомнения, опять вгрызлась ей в грудь…
Однако она продолжала заниматься сборами в Ниццу, и он помогал ей, как бы готовясь тоже с нею в путь.
Но через три недели приехал неожиданно Вейссе. Его прислали за Борисом, которому он привез письма и приказания от матери. И без того взволнованная его отсутствием, она уже находила, что двум из дочерей ее необходимы воды, и решилась ехать с ними на пароходе в Штетин, чтоб оттуда направить дальнейшие свои действия. Письмо приятельницы, полученное из Гейдельберга, ускорило ее отъезд, еще более убедив ее в необходимости скорее добыть сына, во что бы то ни стало, и она отправилась, послав вперед Вейссе с наказом уговорить Бориса. Ему представляли все неудобства и трудности путешествия нескольких женщин, совершенно одних, без покровителя, и во имя всех обязанностей сына и брата его вызывали в Вену, где его должны были дожидаться, чтоб ехать далее под его попечением. Что было делать Борису?..
Он покорился своей судьбе!.. Находя перед собою давнишнее ярмо своей молодости, он смиренно склонил выю и возвратился под семейную власть.
Вместо Ниццы он уехал в Вену!
Марина не плакала, не удерживала, не упрашивала его. Этот последний удар оглушил ее душу и ум. Ей казалось, что жизнь ее прекратилась вместе с прекрасным сном, так нечаянно разрушенным… Тщетно отчаянный Борис умолял ее не огорчаться; тщетно обещал он возвратиться к ней, как скоро довезет куда-нибудь на зиму мать и сестер своих. Она сомнительно качала головою и не отвечала. Он предлагал ей тоже переменить свой маршрут и, вместо Ниццы, ехать в Венецию, куда он брался силою или обманом направить и заманить свой караван. Ни за что в мире не согласилась бы Марина на эту встречу: как можно было ей допустить, чтоб Ухманские имели право потом разглашать, что она насильно за ними следовала и навязывала свое присутствие Борису?.. А она была выучена предвидеть все выдумки, на которые они против нее способны!
— Нет, Борис! — говорила она упорно, — в Ницце мы должны были провести зиму вместе, а поеду я одна! Пусть будет, что Богу угодно.
По крайней мере, она согласилась, чтоб Вейссе проводил ее вместо Бориса. В одно утро оба экипажа были подвезены к одному крыльцу — и разъехались, увозя в разные, противоположные стороны два сердца, которые вечно бились бы радостно друг подле друга, если бы люди их не разлучали…