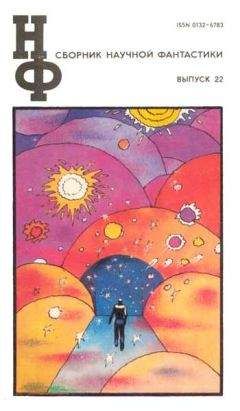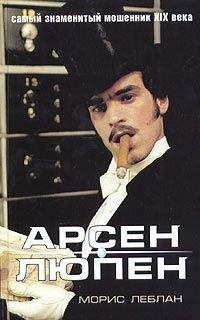Елена Кривская - Глинтвейн на двоих
— Вы меня знаете?
— Как же мне не знать нашего профессора античной литературы?
Кажется, и он припоминал это молодое, смеющееся лицо.
— Но, позвольте, вас ведь, наверное, распределили…
— В колледж, Юлиан Петрович. Но, посудите сами; здесь я за день зарабатываю больше, чем за месяц в колледже…
Он слегка нахмурился.
— Но все равно, я так вам благодарна, Юлиан Петрович, — поспешно говорила его бывшая студентка. — И, представьте, я все-все помню — и про Сапфо, и про Менандра, и «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына…» Я думаю, мне это когда-нибудь пригодится — когда настанут лучшие времена.
«Когда же они настанут — лучшие времена для всех нас?» — подумал профессор, прощаясь с цветочницей.
Глава 22
— Входи.
Ее позабавила и одновременно растрогала та неуверенность, с которой Аргус осматривался в ее квартирке. Когда-то она представляла себе его появление здесь, и это выглядело иначе: в ее мечтах он входил сюда как сильный, волевой, многоопытный человек. Но и его мягкость, некоторая растерянность были приятны ей. Она вживалась в роль хозяйки дома. И готова была, как и прежде, вести его.
— Ты как будто боишься нападения? — весело спросила она. — Ничего не бойся. Как-нибудь отобьемся.
— Кажется, вчера тут были гости?
Она смутилась. Вернувшись с занятий, она три часа подряд уничтожала все следы вчерашнего вторжения. Особенно долго пришлось повозиться со сломанной софой, на которой сейчас сидел профессор. Кажется, она надежно прикрепила ножку. И все-таки…
Она постаралась ответить как можно непринужденнее:
— Были гости. Подруга со своим… приятелем. Посидели. Кстати, кое-что осталось Хочешь попробовать осетринки?
Когда-нибудь она все-таки ему расскажет, и они вместе посмеются над бурными событиями вчерашнего вечера. Не сегодня. Интуиция подсказывала ей, что это следует сделать попозже.
Кое в чем сегодняшний вечер был повторением вчерашнего. Тот же столик, накрытый на две персоны. Остатки осетрины, не потерявшей своей аппетитности. Тот же альбом с репродукциями Иеронимуса Босха, который она подсунула профессору, в то время как запекала на кухне горячие бутерброды с помидорами и сыром. Вместо вчерашнего рома на столике красовалась бутылка принесенного профессором «Атреуса».
Он откупорил коньяк и наполнил на треть два бокала. Аромат, распространившийся в воздухе, напоминал о величии благородной старости. Столь же благородным казался Ане, украдкой поглядывавшей на профессора, его профиль — массивная, посеребренная сединой голова. Но глаза…
Сбоку, незащищенные стеклами, они выглядели усталыми. Он не спешил пить. Ждал. Она села рядом, дотронулась рукой до его плеча. Осторожно сняла пушинку.
— Профессор опять загрустил, — сказала она. — Опять проблемы с Грецией?
— С Грецией все прекрасно, — отозвался он. — Как нельзя лучше.
— Рада за тебя. Главное, что в Греции все есть. В том числе виноградная лоза и женщины…
Дождавшись, пока на его губах промелькнет слабая улыбка, она продолжила:
— … которых воспевал Анакреонт. Еще говорят, что у гречанок идеальные носы и великолепная кожа. Как ты? Не изменишь мне с какой-нибудь гречанкой? Или со многими?
— Думается, нет. Боюсь, что для гречанок с нежной кожей я недостаточно молод…
— Недостаточно молод? Не сказала бы. По крайней мере, в тот вечер ты был так настойчив…
Слабая улыбка испарилась с его губ.
— Нет, правда? Ты считаешь, что я был груб с тобой? Или…
Она удивилась:
— О чем ты?
— Извини, мне тогда показалось, что… Словом, я попрошу тебя ответить искренне… Обещаешь?
— Хорошо, — растерянно сказала она.
— Если в какой-то момент я был неприятен тебе, лучше сразу скажи. Мне показалось… В тот момент, когда ты собралась уходить…
Она закрыла его рот поцелуем. Она вжималась в его горячие и твердые губы. Она почти физически ощущала, как где-то, внутри него возник тяжелый сгусток недоверия, который мешал ему быть раскованным. Она проникала трепещущим языком внутрь, дальше и дальше, словно пыталась достать и растопить этот неподатливый сгусток. Аня почувствовала, как его мускулы напряглись, ощутила долгое прикосновение рук, проследовавших от затылка, шеи до ягодиц, сомкнувшихся на ее бедрах. В результате она оказалась у него на коленях, обнимая одной рукой его шею.
— Глупый, — оторвавшись от его рта, шепнула она. — Я же тебе тогда говорила, как я была полна тобой… И в первый раз… Неужели ты не почувствовал? Я даже не ожидала, что все так сразу получится. А потом… Просто я была не готова. Ты поймешь это, когда мы станем немного ближе.
— А теперь?
— Что теперь?
— Теперь ты готова?
— Да! — горячо шепнула она. — Только… попрошу тебя: давай не сразу. Мне хочется, чтобы это продлилось подольше.
«Это» — означало сидеть у него на коленях, обвив рукой его шею, трогая его губы своими и заглядывая за стекла его очков, чтобы убедиться, какие большие, усталые и беззащитные его глаза. Кончилось тем, что она сняла его очки и осторожно поцеловала в глаза.
— Ты знаешь, как прозвали тебя студенты? — неожиданно спросила она.
— По-моему, да. Аргус?
Она кивнула.
— Это за то, что профессор зорко наблюдает за тем, что происходит в аудитории, правда? И сразу замечает, если кто-то сражается в морской бой, разговаривает или глядит в окно, считая ворон на деревьях? И все его боятся, тысячеглазого Аргуса…
Она снова легонько коснулась губами его глаз.
— Но однажды одна маленькая студентка не испугалась тысячеглазого Аргуса. И даже влюбилась в него. Она первая прибегала на его лекции, садилась за первый стол, поближе к своему чудовищу. И записывала почти каждое его слово, заглядывала ему в рот и улыбалась ему. А он ее не замечал. Смотрел сквозь нее. Как же так, тысячеглазый Аргус?
Его рука отыскала грудь маленькой студентки — остановилась на твердом бугорке. Его ладонь наполнилась.
— У Аргуса была тысяча глаз, — медленно заговорил он. — И Аргус всегда бодрствовал. Спали одновременно только два его глаза. Боги ему доверили стеречь возлюбленную Зевса, красавицу Ио, превращенную в корову. Но Аргус был уже стар… И заслушался игрой Гермеса на свирели, и его рассказом о любви козлоногого Пана к прекрасной наяде Сиринге. И Аргус уснул и ослеп…
Она соскользнула с его колен.
— Ни разу в жизни не видела живую наяду. Она правда была красавица, эта Сиринга?
— Она была подобна тростнику, в который ее превратили сестры-наяды.
Она провела ладонью по его волосам. И приказала:
— Закрой глаза.
Он послушался. И услышал падение шелестящей ткани. Когда он открыл глаза, ее оранжевый халатик лежал у его ног. На ней не было ничего. Ее тело было топким и гибким. Маленькая смуглая ладонь прикрывала низ живота, но не могла полностью скрыть нежный пушок. Через секунду глаза Аргуса не видели ничего. Он смотрел губами, двигаясь от шеи вниз. Он чувствовал напряженное, извивающееся тело и слышал легкий вздох, когда его губы обняли острый, затвердевший сосок. Он продвигался вниз, прошел впадину пупка и коснулся губами руки, все еще прикрывавшей пушистый треугольник.
Рука шевельнулась, легонько провела по его лицу и, нащупав галстук, принялась развязывать узел.
Они выпрямились. Она, справившись с галстуком, расстегнула несколько пуговичек на его рубашке.
В этот момент раздался звонок в дверь. Длиннющий, настойчивый.
Они застыли. Ее руки — у него на груди, его — на маленьких круглых ягодицах.
Звонок повторился — еще дольше и яростнее. Звонивший, очевидно, знал о присутствии людей в квартире. Вслед за звонком за дверью посыпалась площадная ругань. Аня безошибочно установила принадлежность голоса. Так мог вести себя только Мишель, подогретый спиртным и в том особом состоянии, когда он, по выражению Марины, становился «бешеным». Бешенство человека небольшого роста, с брюшком и лысиной, особенно впечатляет.
Аня простонала. Похоже было, что ее квартира превратилась в проклятое место. Тут ломают мебель, устраивают скандалы, разборки, пытаются изнасиловать хозяйку, вовсю занимаются любовью… А когда она сама хочет провести пару часов с любимым человеком, к ней ломятся с матерной руганью.
Аня почувствовала, как ее всю начинает трясти от холодной ярости. Она посмотрела на профессора.
Юлиан Петрович машинально застегнул верхние пуговички на рубашке, глянул ей в глаза. В эту минуту он весь, казалось, превратился в один безмолвный вопрос.
— Милый, — скороговоркой произнесла она, — не думай ничего плохого. Доверься мне. Произошло дикое недоразумение. Я все улажу.
Она подошла к двери.
— Это когда-нибудь кончится? — ледяным тоном осведомилась она.
— Кончится, кончится, дорогуша, — послышалось из-за двери. И следом полился поток нецензурных выражений. — Я разберусь с вашим притоном.