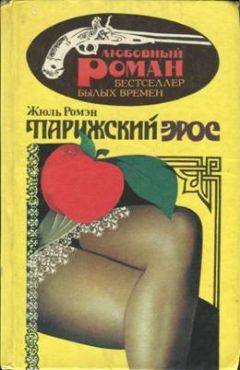Жюль Ромэн - Парижский Эрос
Потом мои глаза остановились на гребенке, позабавились изучением ее выгиба и отсветов, видом мрамора, блестевшего вокруг. Я пожалела, что больше не ребенок. Будь я еще маленькой, я знаю, чем стала бы гребенка: санями в северной стране, санями, остановившимися в огромной степи. Печальное солнце озаряло бы ровный снег. Может быть, люди в санях услышали бы волчий вой, может быть, одна из лошадей запряжки околела бы от холода.
Когда я легла, я заметила, что не хочу спать и не боюсь бессонницы. Я удивлялась легкости, с которой мы иногда живем, непринужденности, с которой существуем. Бывают дни, когда нам удается убить время, только цепляясь за нить интересных мыслей; мы страшно боимся, чтобы они нас не покинули, мы льстим им изо всех сил. На этот раз я не нуждалась даже в мыслях. Кровать принимала меня не так, как всегда. Она сообщала мне не столько ощущение отдыха, сколько ясность, подобную той, которую внушают возвышенные и покойные места. Я чувствовала, как во мне рождаются слова вроде «чистота вершин».
Понемногу мне удалось различить странную мысль, которая мне очень нравилась и которая в ту минуту показалась мне совершенно ясной. Пытаясь ее выразить теперь, я замечаю, насколько это трудно; хотя я не перестаю признавать за ней волнующее значение. Это было что-то вроде следующего, но с бесконечно более богатыми оттенками и совсем другой силой убедительности.
Я говорила себе, что в обыденной жизни наше тело вынуждено постоянно иметь дело с предметами, с определенными местами и что оно находит их каждый раз такими, какими оставило их накануне, так же расположенными и размещенными. Кровать, комод, этажерка, окно — все осталось на том же расстоянии, все эти вещи обмениваются сегодня теми же взглядами, что и вчера, и так же их скрещивают. Мое тело тоже, хотя и движется, проходит, в конце концов, по тем же местам, вытягивается на кровати, которая не сдвинулась. Но не кажется ли мне вдруг, что те же места, те же предметы, то же тело, находясь в пространстве, которое я назову видимым, занимая в нем точно определенные места или заняв их снова после обычных маленьких круговоротов, все это время существовали также и в другом пространстве, незримого порядка, и испытывали там огромные перемещения, описывали там странные орбиты, которые установили совершенно новые расстояния между ними, которые придали им теперь совершенно новые положения, то более трудные, то более удобные; так что привычные вещи и я в действительности никогда не находимся дважды в одинаковых отношениях; так что я никогда не стою одинаково на пути мировых дыханий и, как дом, колдовски перенесенный ночью с холма в долину и с севера на юг, мое тело изумляется тому, что бывает то хорошо «расположено», то плохо.
Да, не проникая в его тайну, я иногда замечаю это волшебство, ловлю его на месте почти что собственными глазами. Помню, бывали вечера, когда эта же кровать казалась мне помещенной в какой-то низменности, ужасно далеко от всяких высот, а надо мной неслись унылые пространства; словно земля разверзлась понемногу под тяжестью моего тела; и подсвечник на ночном столике уже далеко отстранился от меня, отдален от меня в область, ставшую для меня недостижимой; и я видела, как потолок моей комнаты отступает и теряется в высоте, подобно небосводу.
* * *Я еще не помышляла о сне, когда часы пробили полночь. Эти часы я, наверное, слышала много раз, но не обращала на это внимания и не спрашивала себя, где они могут находиться. Звуки неслись издалека, может быть, из церкви или монастырской часовни.
Еще не прозвучал двенадцатый удар, как забили еще одни часы. Я слышала и те, и другие очень отчетливо. Но они никого бы не разбудили, не прервали бы ничьего размышления. Ничего не могло быть осторожнее этого возвещения часа, задушевнее этих двух, тем не менее всенародных, голосов.
Сперва меня охватило чувство ожидания. Я была уверена, вероятно, потому, что рассеянно уже замечала это, что и те и другие часы пробьют еще раз. Мне показалось, что тело мое сжимается или, вернее, что равномерное объятие охватывает его со всех сторон. Дыхание между губ, которые приоткрылись, слегка дрожа, стало короче и напряженнее. Особенно я чувствовала верх груди, словно здесь находилась хрупкая ограда моей жизни. Изнутри частыми ударами стучало сердце; но снаружи должны были последовать двенадцать ударов тех и других часов, легкие и неодолимые. Вдруг, в самом деле, первые часы снова забили полночь. Вторые, немного нагнав их, зазвучали почти тотчас же. Оба звука чередовались, едва различимые. Но сила их проникновения увеличивалась этим, словно мое существо не было подготовлено к защите против такого союза. Один из звуков открывал рану, а второй не давал ей закрыться. А мое сердце посылало свои биения им навстречу. Казалось, эта тройная вибрация старалась соединиться, опьяненно обняться на обломках моей жизни.
«Больше ничего! — хотелось мне сказать. — Удар! Еще удар, и от меня не останется больше ничего!». И этот нелепый крик облегчил бы меня, если бы стыдливость не остановила его на моих губах. Я не смела призвать молчание моей комнаты в свидетели тайны, которая совершалась с моим телом и которая оставалась неясной, пока не имела названия. Мне хотелось обрести простоту святых и сивилл, их смелость облегчать себя, словом, искупать мучения криком. Но мы разучились утолять себя; какой-то ложный стыд всегда удерживает нас. Уравновешенные глаза Мари Лемиез присутствовали в этой комнате. Пространство вокруг меня не было совершенно очищено от осторожных призраков. Каким-то образом, я не знаю откуда, матери моих учениц смотрели на меня. Спокойнее, Люсьена! Дрожащая Люсьена! Спокойнее. Где ты, по-твоему? И не пробил ли это уже последний удар?
X
На следующий день в десять часов я едва закончила свой туалет. Мне не удавалось рассердиться на себя за это непривычное опоздание, и в то же время я старалась не придавать ему значения.
У меня был урок в городе от одиннадцати до двенадцати. Мне оставалось больше, чем нужно, времени, чтобы попасть на него. Я знала, что буду точной, как всегда. Но я, несомненно, смотрела на это равнодушно.
Солнце, ярко освещавшее мою комнату, смягчало прохладу воздуха. Мрамор комода сверкал тем самым блеском, который мы называем смелым, если встречаем его в глазах. Когда я дотрагивалась до него, холодное прикосновение наводило меня на мысль о весне, об утренней прогулке в оголенном лесу, потом каким-то образом вызывало во мне чувство огромной вереницы бегущих передо мной годов, длинного ряда поступков, трепещущих, как тополя на большой дороге.
Одеваясь, я разбросала вокруг немало вещей. И, по правде сказать, моя комната в этот уже поздний час оставалась в беспорядке, который подчеркивало солнце. Это не было мне так неприятно, как могло быть. Я представляла себе богатую молодую женщину, которая, бродя по комнатам роскошной квартиры, нескончаемо прихорашивается и охотно сеет вокруг себя беспорядок, который исправят менее легкие руки. Я говорила себе, что для бедной девушки я не так уж плохо выбрала себе профессию, раз она позволяет мне разыгрывать при случае леность и небрежность богатой женщины.
Вдруг я услыхала стук в дверь. Я подумала, что это письмо. Я открыла. Передо мной стоял г-н Барбленэ.
— Простите, я очень нескромен… не очень-то прилично беспокоить вас в такой час. Но я думал, что вернее вас застану.
Я пододвинула ему стул.
— Нет, нет, я только на минуту. Это просто из-за этого зонтика, он, вероятно, ваш… вы, должно быть, забыли его вчера вечером… Я подумал, что он может вам понадобиться при такой переменной погоде. Служанка могла бы его вам принести. Но у нас сегодня большая уборка. Она могла бы прийти только попозже. А мне ничего не стоило завернуть сюда.
Я посмотрела на зонтик. Это был мой зонтик. Я не помнила, чтобы забыла его накануне у Барбленэ, ни даже, чтобы брала его, идя туда.
— Мерси, но вы напрасно беспокоились.
— О, не стоит об этом говорить, не стоит об этом говорить.
Он стоял посреди комнаты, такой беспомощный, тан явно хотел остаться, так мучился тем, что должен был мне еще сказать, что я сжалилась над его смущением.
— Присядьте же, г-н Барбленэ. Вокзал далеко отсюда, и дорога в гору. Отдохните минутку.
Пока он садился, я просмотрела на лету три или четыре гипотезы, которые могли бы объяснить его поступок, и прямо перешла к самой неприятной. «Семейство Барбленэ, возмущенное обстоятельствами моего ухода, скандализованное докладом Сесиль об ее встрече, объявляет мне о моем увольнении и, чтобы смягчить для меня его горечь, рассчитывает на добродушие папаши Барбленэ».
Первое чувство отчаяния почти сразу же растаяло. Я окинула взглядом свою комнату с разбросанными вещами: «Ты была права, маленькая Люсьена, воспользовавшись сегодня утренним солнцем, чтобы минуту поиграть в богатую женщину. Через пять минут было бы уже поздно… Сумеешь ли ты опять ограничивать себя?.. А дрожь с утра до вечера, как одежда посвященной? А это глубокое пение в ушах, как будто твоя душа, развиваясь вне тебя и перемещаясь шаг за шагом, становится сводом над твоей головой и церковной музыкой? Помнишь ли ты их еще? Обретешь ли их вновь? А слезы к концу дня, есть ли они еще у тебя?».