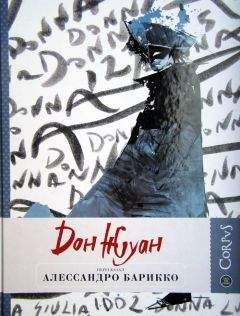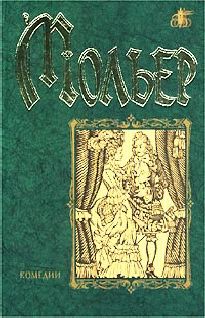Йоханнес Линнанкоски - Песнь об огненно-красном цветке
Он видел, как темнеет ее взгляд, и от этого у него едва не закружилась голова. Он опустил девушку на землю.
«Можно?..» — спросил он одними глазами. «Можно!» — так же ответила Кюлликки, и их губы слились.
Когда он разжал объятия, лицо девушки так изменилось, что показалось ему совсем другим, а на нижней губе мелькнула малюсенькая капля крови. Заметив ее, Олави чуть не вскрикнул от испуга, но тут же почувствовал неизъяснимый восторг: эта капелька крови была тайной печатью их дружбы. Он страстно прижался к этой капельке, стараясь выпить ее и забыться в поцелуе, желая только одного — чтобы мир в этот миг перестал существовать.
Он не знал, сколько прошло времени, не мог сказать ни слова, не понимал — следует ли ему остаться или уходить. В глазах у него было темно, и, когда он пошел, не смея даже оглянуться, шаги его были нетверды.
Костер у девичьей скалы
На протяжении целой мили река течет стремительно и почти прямо. На обоих ее берегах — ровные, окаймленные лесом луга.
Такой пейзаж пленяет душу в любое время года. Осенью, под струями осенних дождей, поток кажется пенящимся рогом изобилия; зимой по его льду наперегонки мчатся сани — так люди возвращаются из города; весной река разливается, как Нил, и невольно приводит на память землю фараонов; летом косари отдыхают на берегу, слушая песни кузнечиков и вдыхая аромат трав, — и нет в году более райских дней, чем эти.
Ровные луга протянулись вдоль реки на целую милю, и только две скалы, как два стража, возвышаются у берега.
Одна из них встала у самой воды и мечтательно смотрит на своего соседа по ту сторону реки. Эту мечтательницу называют Девичьей скалой.
Второй утес — холодный и гордый — отступил немного от берега, надменно вскинул голову и поверх высоких сосен смотрит на равнину. Его называют Вялимяки.
Теперь на склоне Вялимяки полыхал красноватый костер. Вокруг него расположились сплавщики, коротая недолгую ночь, — кто лег на землю и облокотился на руки, кто подложил под голову узелок с припасами, кто прислонился к соседу. Десятки трубок попыхивали синеватыми облачками.
Красное пламя костра освещало стоящие на скале стволы старых сосен и бросало таинственные отблески на темную гладь воды. Сплавщики молчали, посасывая трубки.
— Глядите, братцы, на скалу! — крикнул вдруг кто-то и? них. — Точно эта барышня опять там сидит и в воду смотрит.
Несколько голов одновременно поднялось.
— Да это куст можжевельника. Но на том же самом месте сидела, говорят, и барышня.
— Это что, сказка такая? — спросил какой-то новичок, он впервые попал на реку Нуоли.
— Сказка? Ты что — как тот иноверец в Иерусалиме? — возмутился какой-то пожилой сплавщик. — Антти вот может подтвердить, что никакая это не сказка. Да и не так давно было дело.
— Ровно четырнадцать лет назад, — отозвался Антти, выколачивая пепел из трубки. — Я так ясно все помню, точно это вчера случилось. Да-а, чего только не бывает на свете.
— Вы что — сами видели?
— Конечно, видел. По сей день не могу забыть ее лицо, да так уж, наверно, и не забуду теперь никогда. В первый раз я ее на той скале увидел… рядом с ней сидел тогда молодой человек, одетый по-господски.
Кое-кто из сплавщиков сел и стал снова набивать трубки.
— Это что — ее жених был?
— Жених или что-то в этом роде, я тогда не знал. Я на этом берегу с бревнами возился и видел, что они сидят рядышком. Присел я отдохнуть, закурил трубку и думаю: «Вода как вода, чего они на нее уставились?» А потом думаю: «Но и им ведь тоже надо на что-то поглазеть, а то куда им время-то девать».
— А потом что? Что потом-то было?
— Да что потом? Они посидели-посидели, да и ушли. А на другой день я тут опять бревна ворочал. Поднял голову, гляжу: барышня сидит на том же самом месте, а молодого господина-то нет.
Олави, который до этой минуты лежал, подложив руки под голову, и глядел на плывущие по небу тучи, вдруг перевернулся и уставился на рассказчика.
— Ну и чудачка, думаю, не лень ей из города сюда целых пять верст топать, будто ближе скалы не найдется! А потом думаю: какое мне до нее дело. Так и приходила она каждый день — всегда около полудня, и сидела всегда на одном и том же месте.
— Что же она делала?
— Да ничего не делала, просто сидела и глядела.
— Видно, наш Антти ей полюбился, — сострил какой-то парень. — Вы ведь небось тогда молодым были?
— Попридержи-ка, парень, язык за зубами — тут твоим шуткам не место.
Сплавщики одобрительно переглянулись. Старые сосны на вершине скалы тихо вздохнули под налетевшим ветерком, две молоденькие сосенки, что стояли рядом, коснулись друг о дружку ветками. Тихий жалобный шум от этого прикосновения, подобно белке, скользнул вниз по стволам. Трубки в зубах у сплавщиков дрогнули.
— Так она и сидела там. Молчит себе, бывало, песни никогда не затянет — все о чем-то думает, а о чем — бог весть. Однажды собрался я в Метсямаантила, масла себе купить. Перешел реку, иду вон по той дорожке, а она — мне навстречу, и одета во все черное.
— Ну?..
— Ну, я сначала растерялся — даже на лице у нее черная вуаль была. А потом гляжу: до чего хороша — точно ангел господен. Я снял шапку, она взглянула на меня и кивнула. И так мне это странно показалось, что я обернулся и гляжу ей вслед.
— А она молодая была?
— Совсем молодая, и двадцати, верно, не было. Так я ей вслед и смотрел, пока она за деревьями не скрылась. Ну, думаю, теперь все ясно: у нее, видно, отец или мать померли, вот она и одета в черное и сюда она приходит, чтобы горе свое скоротать. И пошел своей дорогой. Но только я мимо скалы прошел, слышу, сплавщик с этого берега — он ниже по течению работал — как закричит: «Помогите!»
У меня сердце так и оборвалось. Я — к берегу. «Что случилось?» — кричу.
«Со скалы бросилась!» — кричит он мне, а сам бегает как полоумный.
Подбежали мы оба к реке — ничего не видно. Подождали немного — не всплывает. Я тогда в деревню побежал, а товарищ мой — в город.
Вытащили ее с первого же раза. Она в том самом месте, где бросилась, так камнем и пошла на дно. Откачивали и так и сяк — ничего не вышло. Но до чего она была хороша — даже мертвая, чудо как хороша! Когда мы ее откачивали, пришлось ее немножко раздеть, так кожа у нее была — что белый шелк, такими лапищами и трогать-то, думалось, грешно.
Рассказчик умолк, слушатели тоже молчали.
— Что же она, с горя себя жизни лишила? — спросил наконец кто-то.
— С горя. Из-за любви.
— Вон как. Что же — беда, видно, с ней стряслась?
— Нет, ничего худого не было. Просто очень она любила того парня — молодого-то господина, с которым тогда сидела, а парень ее оставил.
Сплавщики сидели молча. У Олави так колотилось сердце, что он опасался, как бы другие не услыхали. Он уставился на огонь, сдвинул брови и плотно сжал губы.
— Вот она, господская-то любовь! — усмехнулся кто-то.
— А девичья? — подхватил другой нарочито весело, чтобы рассеять общую подавленность. — У девушек сердечки как карманные часики: чуть тряхнешь, все колесики и рассыплются.
— Это только у барышень так, у крестьянских-то девушек сердца покрепче. Крестьянская любовь — что стенные часы. Стоит им зашалить, скажешь «стоп» и остановишь часа на два, потом смажешь немножко, прикрикнешь и пустишь снова — пойдут как миленькие.
Это всем понравилось. Одни откровенно смеялись, другие про себя ухмыльнулись.
— Хорошо сказано! — вступил в разговор полноватый громкоголосый сплавщик. — Моя баба тоже в молодости в одного молокососа влопалась, так и сохла по нему. Ну, думаю, милая, с этим сосунком ты далеко не уедешь. Взял я его за шкирку, отставил в сторонку и женился на девке. И хорошо сделал: она с тех пор своего сосунка ни разу и не вспомнила.
Слушатели расхохотались.
— Над собственной грубостью смеетесь, — заговорил старый сплавщик, выколачивая золу из покривившейся от времени трубки. — В крестьянстве тоже такие часы встречаются, которые не терпят, чтобы им стрелки пальцами переводили. И не всякий станет утешаться у первого попавшегося корыта.
В его голосе было столько выстраданной боли, что смех оборвался. Олави растерянно повернулся и внимательно посмотрел на говорившего: кто-то за спиной старика делал знаки, указывая на него пальцем.
— Я, во всяком случае, знаю одного крестьянина, — продолжал старик, — который не мог жениться в молодости на любимой девушке. Рук он, правда, на себя не наложил, но жизнь его пошла прахом: дом продал, деньги пропил и всю свою жизнь промытарился, как сапожник из Иерусалима, а забыть ту девушку так и не смог.
Старик умолк.
— Кажется, по сей день ее вспоминает, хоть и стал уже стариком, — заметил тот, который только что делал знаки.
Старик опустил голову и так натянул на глаза шапку, что козырек совсем скрыл его лицо; видно было только, как подергивается обросший щетиной подбородок и дрожит в руке оправленная латунью трубка.