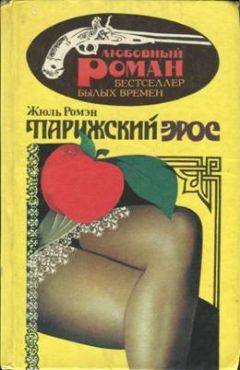Жюль Ромэн - Парижский Эрос
Как только я взглянула на Пьера Февра, меня снова охватили размышления, которым я предавалась прошлый раз и которые прервал взор г-жи Барбленэ. Цепь моих рассуждений возобновилась как раз на том же месте, где оборвалась, как полоса кружев механического производства, за которую снова принимаются, пли как сны, которые продолжаются на следующую ночь.
«Актер из маленького театра?.. Лакей?.. Если б я сегодня впервые встретила его в трамвае, помешало ли бы мне что-нибудь в его лице, какая-нибудь черта, подумать, что это, может быть, молодой лакей, отпущенный со двора и гуляющий? Да, и без долгих поисков. В его взгляде нет ни отсвета подобострастия, ни отсвета наглости, ни даже угрожающего блеска гордости, попираемой ремеслом. Складки его лица привыкли свободно образовываться и разглаживаться, смотря по настроению или по тому, как он считает нужным. Вот он рассмеялся. Один миг выражение его лица было детским, по крайней мере, возле глаз, именно из-за отсутствия стеснения, потому что он не ставил ширм перед своей минутной веселостью. Актер? Нет, и не актер…»
Но в отличие от прошлого раза моя внутренняя речь не настолько поглотила меня, чтобы сделать рассеянной. Она текла как бы подземно, словно мотив левой руки на рояле. Она служила вторым голосом слов, которые я произносила, салонных мыслей, которые я деятельно вырабатывала.
Правда, мне, главным образом, пришлось беседовать с самим Пьером Февром. Мы говорили о музыке. Пьер Февр уверял, что никогда не умел играть на рояле. Он, может быть, был искренним в том смысле, что никогда систематически не занимался и даже сольфеджио проходил только в силу рутины. Но он выказывал основательное музыкальное воспитание. То, как он взял несколько нот, чтобы напомнить мне места из произведений, которые он мне назвал, вызвало в моем воображении маленькую каюту на корабле, кружок офицеров за папиросами, Пьера Февра у рояля; горсточку молодых людей, втайне подавленных пустынностью моря, обеспокоенных глубокими движениями памяти; среди них Пьер Февр и музыка, которая помогает им находить во всем этом какую-то возвышенную радость.
В то время, как мы говорили, голова моя немного пьянела.
Уже давно я не вела сколько-нибудь значительного разговора, особенно при свидетелях. Мари Лемиез не проявляла интереса к трудным темам, и мы сами были единственными судьями наших бесед.
Здесь судьи были не такие уж страшные. Все же их присутствие очень обостряло мои впечатления. Я говорила себе, что мы с Пьером Февром, по какому-то взаимному соглашению и признанию, оказались вдруг словно ярко освещенным городом, окруженным варварскими племенами, которые издали любуются непонятными празднествами, происходящими в нем.
Пьер Февр, может быть, не сознавал этой мысли, но он должен был ее почувствовать. Сильно пересидев обычный час моего возвращения, я подумала, что пора домой, но мне пришлось хотеть этого несколько минут кряду и двадцать раз повторить себе приказание, чтобы, наконец, заставить себя встать и произнести слова прощания.
Не успела г-жа Барбленэ сказать своему мужу:
«Ты проводишь мадмуазель», как Пьер Февр воскликнул:
— Но мне тоже в город. Если мадмуазель позволит, я помогу ей перебраться через рельсы.
Предложение было сделано таким решительным тоном, что никто не успел ни оспорить его, ни даже задуматься над ним.
Казалось, г-жа Барбленэ хотела напомнить Пьеру Февру, что он должен обедать у них, как обычно. Но она только слегка откинула голову, подняла и приоткрыла левую руку и на миг задержала дыхание.
Что касается сестер, то я старалась не представлять себе, что они могут думать о происходящем.
Мы с Пьером Февром несколько неожиданно оказались на пороге.
Тот же порыв, что захватил нас обоих час тому назад и толкнул Пьера Февра на неожиданный поступок, заставил меня сказать ему:
— Надеюсь, что не я оторвала вас от вашей невесты?
Мы пересекали первые рельсы. Он воскликнул:
— Я попаду под поезд, если вы будете так меня огорашивать. Моя невеста… послушайте…
И он принялся повторять: «Ха! ха! ха!» — род восклицания, очень веселый и очень мужественный, менее связанный с телом, чем смех, действительно чистый взрыв живого ума, который вызывал мысль о разных легкомысленных способах относиться к жизненным обстоятельствам и который я живо представляла себе звучащим в узком коридоре корабля или у входа на мостик, на верхней ступеньке железного трапа. Один взгляд какого-нибудь человека может казаться нам неисчерпаемым и может дать этому человеку власть над нами, вес которой нас поражает. «Ха! ха! ха!» Пьера Февра внезапно внушило мне общую веру в самое себя и в окружающее, смелую точку зрения на человеческое положение. Это был словно глоток вина. Даже тело и костяк получили свою долю. Я позавидовала человеку, который носит в себе запас такого настроения, и почувствовала, с каким нетерпением буду ждать еще одного «ха! ха! ха!» Пьера Февра.
Через несколько рельсов он добавил:
— Кто вам сказал, что я жених?.. Прежде всего, чей?
— Простите. Я вижу, что сказала или сделала глупость. Я слушала невнимательно и поняла превратно обрывки признаний, вырвавшиеся у моих учениц… Я в отчаянии…
— Не оправдывайтесь так. Я, напротив, в восторге, что имею случай навести справки относительно предмета, который, как-никак, а меня касается. Послушайте! Вы отнеслись ко мне, как к товарищу, и это очень хорошо. Не замыкайтесь теперь в дипломатическую осторожность.
— Но что я могу вам сказать, чего бы вы не знали, наверное, лучше меня?
— Простите! Мне кажется, вы способны открыть мне кучу вещей. Вы уже сообщили мне, что я жених. Вы находите, что этого мало?
Здесь было место для нового «ха! ха! ха!», которого я ждала, но которого не последовало. Я готова была разочароваться, но подумала, что, повторяясь, когда его ждут, этот чудесный взрыв глубокой жизни принял бы механический характер и что его власть надо мной требовала неожиданности.
— Ну! Просветите меня до конца. Какого числа я женюсь? Это очень важно для меня из-за приготовлений.
— Вы смеетесь надо мной, и я этого заслужила. Куда я вмешалась? Но вы отлично понимаете, что если произошла ошибка, я могу в ней только извиниться, а не давать вам объяснения. Если кто-нибудь из нас, — добавила я через минуту, — в состоянии исправить ошибку другого, то это, конечно, не я.
Он улыбнулся, сделал забавную гримасу, которую странно осветил путевой фонарь.
— Это недурно. В сущности, я в положении обвиняемого. Да, да! и это вполне законно… Час искупления… Вы имеете полное право спрашивать меня, как могло случиться, что я слыву женихом… да, чьим?.. ну, одной из сестер Барбленэ, скажем, женихом сестер Барбленэ.
Он говорил это так весело! И это так отвечало некоторым из моих предыдущих мыслей, что я не могла удержаться от смеха.
— Я должен оправдаться. Я должен объясниться.
Я протестовала.
— Да, да. Но вы мне поможете. Это совершенные пустяки. В этом вопросе есть оттенки, которых я не улавливаю, а вы, вы сможете их мне пояснить.
Мы выходили из вокзала. Когда мы собирались пересечь площадь, он остановился и сказал мне грустно:
— Я уже собрался сопровождать вас прямо в город, не подумав об этом. Вам, наверное, не так уж приятно, чтобы вас встретили с мужчиной, еще не канонического возраста, не правда ли? В провинции и в вашем положении… Я это отлично понимаю. Я опять чуть не повел себя, как дурак. Вы не замечаете? У вас вид, как будто вы считаете, что еще глупее разглагольствовать вот так, под этой электрической дугой, которая нас великолепно освещает?
— Боже мой! Я обратила на это не больше внимания, чем вы. Но, действительно, возможно, что если бы мать какой-нибудь из моих учениц встретила меня в вашем обществе на Вокзальном бульваре, пустынном в этот час и довольно темном, она не стала бы утруждать себя приисканием доброжелательного объяснения. Это, впрочем, меня бы не удивило. Почем знать? Может быть, она почувствовала бы по отношению ко мне некоторую благодарность.
Он посмотрел на меня с искорками в черных глазах, как смотрят на приятеля, который только что подпустил хорошую шутку.
— Да. Послушайте. Это очень скучно. Но я не мог отпустить вас без объяснения. Да, да. Мне это важно. С другой стороны, не отправляться же нам снова по рельсам.
Меня охватило тогда странное чувство. Мне тоже казалось очень важным, чтобы наш разговор не кончился сейчас. Я говорю «мне тоже», потому что я как бы угадывала за этими словами Пьера Февра то же почти мучительное желание.
Мне показалось, что нам надо во что бы то ни стало некоторое время побыть вместе. Через полчаса, например, мы свободно могли бы расстаться. Мое желание не было тем, которое заставляет нас растягивать прогулку. Так как оно скорее напоминало мне волнение, которое я испытывала иной раз, выжидая, выслеживая удачное окончание какого-нибудь тонкого дела, в котором случай и самое содержание принимали такое же участие, как и моя ловкость, и которое надо было стараться не испортить нетерпеливым желанием скорее узнать исход.