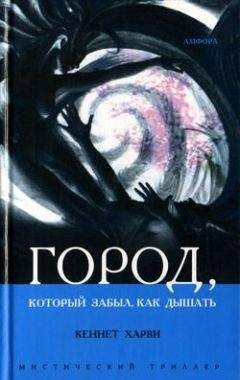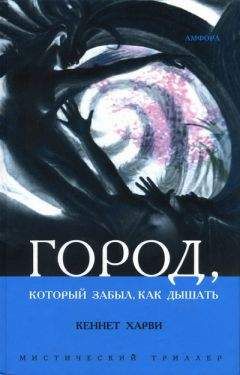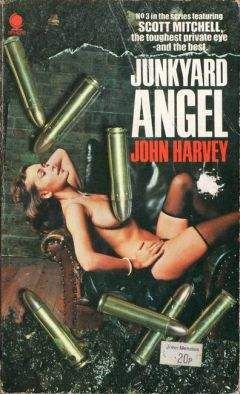Николай Семченко - Что движет солнце и светила
Нинка возмутилась, и заматюкалась, и, решив показать, кто в этой хибаре хозяин, даже костылём замахнулась, но робкий её сожитель, усовестившись, принялся что-то нечленораздельно бубнить и мычать в ответ. В критических ситуациях он всегда притворялся изрядно пьяным.
Поняв, что Чекушка по своему обыкновению пошёл на попятую и даже вроде как задремывает, Нинка и сама уронила голову на стол. Но не потому, что её одолел хмельной морок. Просто она не хотела, чтобы Чекушка видел, как по её щекам катятся слёзы. Она считалась бой-бабой, и на самом деле прошла все огни и воды; никто бы даже и не подумал, что Нинка-одноножка способна разнюниться.
Иногда она задумывалась, для чего человек живёт и за что ему определено Богом так много мучений, и что это за такое - любовь, и почему она так напоминает луну - с её переменчивостью, то прибываниями, то убываниями, и обратной стороной, скрытой от взгляда с Земли. А может, любовь - это что-то вроде призрака: все о ней говорят, но мало кто видел. И чувствовал.
Нинка-одноножка сама пришла к такому выводу, и ведать не ведая о грустном и ироничном французе Ларошфуко, который утверждал то же самое.
Чекушка взял её за душу удивительно просто. Однажды, когда вся их компания, набрав пива, расположилась на задах рынка, он пошёл по маленькой нужде за большой мусорный контейнер. Вернулся оттуда с букетом роз. Цветы, правда, были мятые, лепестки осыпались при каждом резком движении, но это всё-таки был букет! И Чекушка нес его осторожно, как некую драгоценность.
Нинка уже и не помнила, когда мужчина в последний раз дарил ей цветы. Это было так давно, в той жизни, которая пахла мандаринами и свежими простынями, чудным утренним кофе и жёлтыми нарциссами в узкой хрустальной вазе, но всё в одночасье кончилось: отца, директора кооперативного магазина, отправили в места довольно отдалённые; у матери случился инфаркт, из которого она не выкарабкалась, и Нину, не ведавшую до того печалей, определили в детдом, так и кончилась её прекрасная эпоха.
Нинка, конечно, оценила джентльменский жест Чекушки. И, не смотря на то, что Рыба по-прежнему её интересовал, она всё-таки приютила у себя галантного бездомного бича.
Он попытался добиться её полного расположения, но Нинка каждый раз начинала плеваться, особо не заботясь, что попадает прямо в его лицо, и однажды он вдруг увидел в её глазах такое полное презрение и ожесточение, что тут же и отступил, и больше не пытался возобновлять свои любовные экспансии. Тем более, что довольно скоро Чекушка понял, что Нинка денно и нощно поглощена думами об этом непостижимом, чудаковатом Рыбе, и даже когда она участвовала в попойках, собачилась в очереди к ларьку стеклотары, копалась в мусорных контейнерах, - она всё равно думала о Рыбе, и это приводило её в отчаяние, и она готова была совершить самые ужасные вещи, чтобы только увидеть предмет своего молчаливого обожания. Это было похоже на любовь, но Чекушка знал, что Нинка как-то провела полгода в местной психушке, но толку от этого было мало: на неё временами, что называется, находило - Нинка сидела с благостным выражением лица, зрачки её глаз расширялись и по-кошачьи светились, а с губ срывался невнятный шепот, и всё-таки можно было разобрать: "О, крик женщин всех времён: " Мой милый, что тебе я сделала?"
Чекушка решил, что это она свою былую образованность показывает. Всё-таки росла в хорошей семье, разные умные книги читала, путешествовала с родителями по разным курортам и санаториям, и даже, подумать только, на пианинах играла, артистка!
Уснув, Чекушка не услышал, как Нинка тяжело вздохнула и чуть слышно зашептала:
- Прости меня, Саня, прости. Я не хотела, чтобы так вышло. Не хотела! Ну не знаю я, не знаю, откуда взялся этот проклятый огонь. Я шла тебе навстречу, а ты меня не видел. Ты не шёл, а плыл, никто и ничто тебя не волновало, ты был где-то далеко-далеко, и что-то в тебе было такое, чего я сразу не поняла, а когда поняла, то испугалась: ты светился изнутри, будто где-то там, в глубине , в глубине твоего тела, горела свеча. И тут что-то со мной случилось. Я возненавидела тебя, потому что ... почему?.. а, не знаю!.. нет, знаю: я для тебя просто не существовала, а если и существовала, то как какая-нибудь досадная мелочь вроде камня, о который можно споткнуться. И я захотела, чтобы ты сгорел, провалился сквозь землю, всё, что угодно, лишь бы тебя для меня больше не существовало...
Чекушка недовольно заурчал и заворочался на своей лежанке. Нинка явно мешала ему спать.
- А он знай себе дрыхнет, - Нинка покачала головой. - Эх, чучело, знал бы ты, как я спалила взглядом такого мужика! А, всё равно не поверишь, скажешь, что мне лечиться надо. А может, и вправду - пора?
***
Утром Нинка, как всегда, поковыляла на рынок, Чекушка - пивному ларьку. А пожарный инспектор, которого поджимали сроки, мучился над составлением акта экспертизы о причинах пожара на Красноармейской улице. В конце концов, он решительно вывел четкую фразу: " Причина возгорания - короткое замыкание."
В тот же день загорелись контейнеры на заднем дворе местного рынка. И когда пожарные залили огонь, то обнаружили обгоревший труп с особой приметой: у погибшего левая нога была ампутирована. Впрочем, возможно, это был не обязательно мужчина. По состоянию останков судить о физиологической принадлежности к определённому полу было трудно. Пожарный инспектор на этот раз зафиксировал в рапорте: " Причина возгорания - неосторожное обращение с огнём..."
ПОРЧА
Утром ему всегда не хватало пяти минут. Чтобы, например, чисто выбриться. Так, что проведешь ладонью по щеке, а она гладкая, на ощупь как бы даже атласная, чуть прохладная от лосьона. И хорошо бы еще подровнять усы: они торчат под носом эдакими двумя зубными щетками, а надо бы - тонкая линия, франтоватость изгиба, и к черту, к черту вот этот серебристый волосок, и этот, и этот. Ну уж и зубы, само собой, надо бы тщательно отдраить: опять вчера накурился до одури, пока корпел над лекцией о Кузмине. И что, ей- Богу, за привычка такая дурная: писать каждую лекцию как статью чтоб было в ней, так сказать, приключение мысли, как бы непреднамеренные отступления от темы, неожиданные разбивки в виде литературных анекдотов, сплетен, цитаты из никому не нужных литературоведческих трудов, но надо ведь и на них как-то сослаться, будто невзначай, между прочим - эдаким экспромтом, язвительной усмешкой или, напротив, уважительным кивком: вот, мол, умели же люди думать, какой парадокс, глубина мысли, а?!
Но самое интересное, так это то, что на лекции он почему-то забывал о написанном. Листы конспекта сиротливо лежали на кафедре, а сам Игорь Николаевич разгуливал по аудитории и говорил, говорил, говорил...
Вот бы удивились студенты, если бы узнали, что этот преподаватель, всегда пунктуальный и на зачетах занудливо-придирчивый, насилу был разбужен женой; с почти закрытыми глазами, еще не совсем проснувшись, чуть ли не на ощупь провел несколько раз электробритвой по лицу, наскоро проглотил два бутерброда с вареной колбасой, набрал в рот воды с пихтовым эликсиром - так и одевался, с надутыми щеками, побулькивая жидкостью, которая щипала язык и десны. Антошка, сын, нахлобучив шапку, ждал команды надевать шубку, а Игорь Николаевич сказать ничего не мог из-за этого долбаного эликсира, который полагалось держать во рту не меньше пяти минут, и только размахивал руками и мычал: одевайся, мол, чего сидишь, бестолочь, опаздываем! И когда наконец выплевывал жидкость, нестерпимо вонявшую елкой, в унитаз, обязательно в унитаз, потому что из него еще нестерпимее несло брагой - наверное, сосед сверху опять гнал самогон и сливал алхимический состав в канализацию,- так вот, когда выплевывал он полосканье, то непременно издавал вопль:
- Оля! Завяжи Антону шарф! Скорей! Чего расселся? Опаздываем!
Оля привычно бросала свои косметические причиндалы, отскакивала от зеркала и успевала застегнуть последнюю пуговицу на Антоне как раз в тот момент, когда Игорь Николаевич уже открывал дверь. И тут же вываливался с сыном в холодный подъезд, сбегал по лестнице вниз и, ни на секунду не замедляя шаг, мчался к детскому садику.
Являлись они туда ровно на две минуты позже, чем нужно, но воспитательница уже давно свыклась с мыслью, что начинать построение на утреннюю зарядку нужно без Антона. Все равно он ловко вклинивался в строй и с ходу начинал делать первое упражнение...
Вот и в то утро Игорь Николаевич, сдав Антошку в садик, по привычке ринулся к автобусной остановке. И даже почти добежал до нее, как вдруг остановился, потому что вспомнил: первая пара часов сегодня не его, поменялся с философом - тому куда-то нужно позарез, конференция какая-то, что ли, открывается в полдень, и не ломать же из-за этого расписание, да и последнюю лекцию перед зимней сессией отчубучить нужно.
В общем, получалось так, что Игорю Николаевичу можно вернуться домой, спокойно заварить крепкого чая, не торопясь выбриться, привести себя в порядок и даже успеть полистать последний номер любимого "Нового мира". Он и повернул назад.