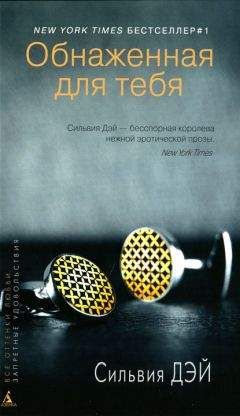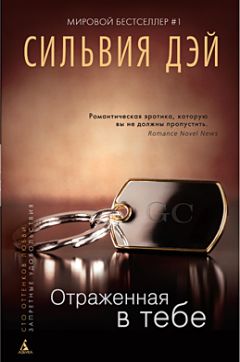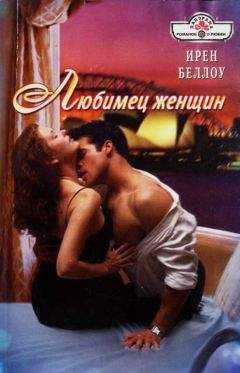Обнаженная. История Эмманюэль - Кристель Сильвия
«Крим колор пони!..» Пританцовывая, Марианна напевает тарабарщину, из нее просто льется. Я перебиваю, запевая взрослые шлягеры — «Битлз». Этим я показываю непросвещенной малявке свое знание английского, а потом говорю ей, что пора спать, и Марианна слушается. Подхожу к окну, море волнуется, с криком кружатся чайки.
— Ах, непогода, непогода… — это тетя Мари причитает в коридоре голосом привидения.
Я не могу заснуть. Папа собирается сказать что-то важное. Он хочет продать отель? У него нелады со здоровьем? Мы ему больше не нужны? Мне тревожно, я взволнованна, как море за окном. Я неплотно закрыла дверь, и мне слышно, как мать говорит что-то необычайно тихо. Высунувшись в коридор, я слушаю непрекращающийся шепот. Слов разобрать нельзя, но интонация улавливается. Кажется, она спрашивает о чем-то папу, а тот не отвечает, и она умоляет его.
Вот и утро, а я почти не спала. Отец, зайдя, будит нас довольно сухо. Мать уже на кухне, она так и не сняла своего летнего платья в цветочек, без рукавов. Ей вроде холодно, она целует нас не глядя.
В дверь звонят. Я подпрыгиваю, колокольчик звенит громко, требовательно. Вдруг просыпается заснувшая на стуле тетя Мари и, ворча, идет открывать. Я слышу громкие голоса. Мы бежим к дверям и видим женщину с белым лицом. Глаза у нее накрашены, губы тонкие и ярко-пунцовые, волосы взбиты, побрызганы лаком, прическа очень высокая из-за огромного круглого шиньона, возвышающегося на самом затылке. Я на шаг отступаю, она кажется ведьмой. Отец рукой отстраняет тетю Мари и представляет всем эту женщину. Из кухни выходит мать, встает поодаль от отца и отворачивается.
— Дети, представляю вам мою новую жену!
Мать не произносит ни слова, она уже несколько дней в курсе дела, она смирилась, в конце концов она смирится со всем.
Тетя Мари злобно урчит, в ярости хватает стоящую у дверей в гостиную бутылку хереса и наносит женщине удар по голове, точно как в детских мультиках. Шиньон сплющивается. Испуская повизгивание, женщина отбивается, но ей не причинили никакого вреда. Отец мощными руками хватает сестру за талию и тащит ее в комнату, потом возвращается, садится, он устал. Женщина разглядывает меня с легкой улыбкой.
Не может быть. Не может быть! Вот сейчас, в эту минуту, надо подбежать к папе, крикнуть ему, что я люблю его и умоляю позаботиться о маме, — само собой, он послушается дочери. Я прыгаю к нему на колени и умоляю его:
— Папа, вы не сделаете этого!
Я трясу его тяжелые плечи. Он всхлипывает, уклоняется от моих поцелуев и говорит дрогнувшим голосом:
— Что ж, я слаб, девочка моя, слаб…
Папа сделал выбор. Женщина все еще улыбается, волосы у нее слегка растрепались, но выглядит она смелой и решительной. Кровь ударяет мне в голову. Кровью наливаются глаза. Я прихожу в ярость, прорывается то, что копилось во мне четырнадцать лет. Я кидаюсь на ведьму разъяренной львицей. Я колочу ее, царапаю, срываю этот чертов пластиковый шиньон, о котором в нашей семье до сих пор никто и не слыхал, я хочу ее убить, видеть ее кровь, раздавить ее.
Отец и мать с трудом отрывают меня от этой женщины, уже лежачей, она даже слезинки не уронила, гнусная упрямая тварь, живучее насекомое. Меня запирают на весь день. Я барабаню в дверь, то кричу, то рыдаю, а потом внезапно — успокаиваюсь. Я пришла в себя. Меня не сломить. «Держитесь царственно, выше голову…»
Я уговариваю себя, что все бесполезно, что разрыв нужно принять как обычное событие повседневной жизни, не искать логику. Завтра бурное море успокоится и станет гладким, как масло. Папа уходит. Будто наступает другое время года. Кажется, что можно управлять любовью, жизнью, связями, можно научиться их выстраивать, но временем года управлять нельзя.
Что ж теперь будет? Не знаю. Грядущее этой разбитой жизни страшит меня. Надо понять, что жизнь не имеет смысла, что природа непознаваема и изменчива. Надо идти дальше, мучительно продираясь между солнцем и непогодой, от первого бала до пляски смерти.

Мои родители развелись. Это так, это уже случилось, чужие на всю жизнь. Моя храбрая мама объявила мне об этом официально. Я старшая, имею право на ответственность, право порицать и знать обо всем — от тривиальных пустяков до самого трудного. Родители развелись. Я нейтральный и печальный поверенный душевных ран и этого известия, порвавшего живую нить нашей жизни, непрерывность ее течения.
Наша семья была недружной, тяготевшей к пьянству, наша связь — печальной необходимостью, близость — невыразимой и целомудренной. Работа, зацикленность на самих себе, неспособность к серьезному совместному существованию, нежелание подарить близкому тепло собственного сердца породили между нами дистанцию. Каждый в нашей семье жил сам по себе, как будто между нами была война, и все-таки это была семья.
Мать говорит, что ничего страшного, Бог поможет. Бог ничем не поможет, а уж мать тем более. Я вижу, как ей больно, ее то и дело трясет, глаза бегают, она таращит их, чтобы скрыть слезы, такие слабенькие, что они даже не скатываются вниз. Мать хочет быть сильной и продолжать верить, что понимает жизнь и то, как она устроена. Она цепляется за привычные строгие правила, защищающие от всего на свете, и тут же ее прорывает, как плотину, уже давно еле державшуюся под напором накопленной воды.
Когда отец уходит, мать осознает могущество любви. Любовь моего отца, которую она считала своей, перешла на другую, другое тело, и это надломило мать до конца ее жизни.
Родители любили друг друга, теперь я знаю это, но они мучились одной и той же болью. У обоих истребили, подорвали способность любить задолго до брака.
Их любовь была замкнутой в себе. Физическое слияние существовало как бы отдельно от самой любви: у отца — навязчивое, наигранное возбуждение, а для матери — род неприятной, нежелательной повинности.
Мать любила отца, его нежданные вспышки радости, его молчание, его пылкость, но не принимала силу его желания. Она хотела от мужчины одной только нежности. В ее душе жили следы протестантского воспитания, непоколебимое чувство нормы, одинаковости, усредняющее все живое с его устремлениями и отличиями.
Отец отличался от нее тем, что у него был член. Мать любила все, что было между ними общего, но только не этот крепкий и твердый член, не массивное тело отца, не его терпкий запах, не его власть над нею, раздавленной и послушной. Мама любила танцевать, грациозно кружиться, а не трястись в такт удовлетворению мужского желания.
Родители любили друг друга, не признаваясь в этом, силились убежать от любви и не могли от нее отречься. Бывали у них взаимные ласки, когда они тайно, украдкой утешали друг друга. Отцу нравилось, когда мать по-доброму заботилась о нем. Она одевала и прихорашивала его, проверяла, хорошо ли постираны и выглажены его хлопчатобумажные рубашки, сытный ли стол, свежее ли на нем пиво. Но стола оказалось недостаточно. После отказов матери отец изменял ей, он уходил, но всегда возвращался. И раз уж он вернулся, дело обходилось какой-нибудь парой пощечин.
Вечерами я все время думала об одном. Что объединяет нас всех? Где высшая любовь, начало всего живого? Такой вопрос я ставила перед собой. И когда я поняла, что ответа нет и вот прожит еще один день без всякого намека на любовь, без малейшего признака нежности, я мечтала о далеких краях, где теплее, чем здесь, мечтала попасть в страну, где занимались бы любовью целыми днями, и о тех фильмах, в которых все просто, а венчает их долгий поцелуй с закрытыми глазами, такой долгий, словно после него ничего уже не будет.
Я не знаю ничего обиднее, чем быть отвергнутой, когда твое тело неприятно физически. Отвергают его кожу, плоть, формы, само его существование. Быть абсолютно уничтоженной простым отодвигающим жестом или чьими-нибудь поджатыми губами. Страшная обида. Отцу это было невыносимо. Невыносимое ощущение отвергнутого он, ребенком отданный в пансион, помнил еще по сухим и холодным пальцам своей матери. Мои родители не смогли сказать друг другу всего этого. Не смогли понять друг друга, прорваться к счастью, соединить плоть и страсть. Их любовь не переживала поры цветения.