Анаис Нин - Генри и Джун
— Я преувеличил жестокость и порочность Джун, — говорит Генри, — потому что меня влекло к пороку. В этом-то все и дело. В мире нет объективно плохих людей. И Джун на самом деле не является воплощением зла. Фред прав. Она отчаянно пытается быть такой — это было первое, что она сказала мне в ночь нашего знакомства. Она хотела, чтобы я считал ее роковой женщиной. Меня вдохновляет порок. Он завораживает меня, как Достоевского.
Жертвы, которые Джун приносила Генри. Можно ли их считать жертвами, или она поступала так, чтобы самоутвердиться? Я постоянно задаюсь этим вопросом. Ее жертвы — большие или маленькие — бывали незаметны. Но мне больше нравится проституция Джун, это золотоискательство, эта театральность. В промежутках Генри может и поголодать. Она будет служить ему нереально и ненадежно… или никак. Она настояла, чтобы Генри бросил работу. Она хотела работать для него. (В глубине души я размышляла о проституции, но сказать об этом Генри значило бы искать оправдание.) Итак, Джун нашла могучее оправдание. Она принесла Генри героические жертвы. И все это содействовало формированию ее личности.
Я говорю Генри:
— Почему ты так суров к ее недостаткам? И почему ты меньше пишешь о ее великолепии?
— Джун говорит так же. Она постоянно повторяет: «Ты забываешь о том, ты забываешь об этом. Ты помнишь только плохое». Все дело в том, Анаис, что доброту я принимаю как должное. Я ожидаю ее от каждого. А зло меня занимает.
Я вспоминаю слабую попытку пережить одну из своих фантазий. Однажды я вернулась к Генри, после того как он дьявольски раздразнил меня. Я сказала, что на следующий вечер собираюсь куда-нибудь пойти с одной знакомой. На вокзале Сен-Лазар я увидела проститутку, с которой мне очень захотелось поговорить, и представила, как мы с ней куда-нибудь пойдем. Сейчас, врываясь в квартиру Генри, как, возможно, делала Джун, я могла бы сделать нечто очень любопытное, о чем потом было бы приятно поговорить с Генри. Но вдруг я поняла: он пишет, он настроен серьезно, и я ему мешаю. Он надеялся, что я сяду рядом и помогу ему в сочинении книги. Мое игривое настроение испарилось. Я даже почувствовала угрызения совести.
Джун прервала бы его работу, окунула в другие переживания, не желая их обдумывать; она предстала бы во всем блеске, самой Судьбой в движении, и Генри проклинал бы ее, а потом бы сказал: «Джун — интересный персонаж».
Я уехала домой в Лувесьенн и легла спать. А когда на следующий день Генри спросил меня, что я делала прошлой ночью, мне было очень жаль, что мне нечего ему рассказать. Он сказал, что я вела себя странно. Он думает, что однажды прочтет об этом в моем дневнике.
Интересно, какие чувства будет испытывать тот, кто прочитает весь мой красный дневник. Генри не очень много говорил, пока читал, только иногда покачивал головой или смеялся. Он сказал, что мой дневник чрезвычайно откровенен и что описания чувственных ощущений невероятно сильны. Мои слова не были витиеватыми и пафосными. Я хорошо описала его, немного польстила, но в основном говорила правду. И то, что я написала о Джун, — чистая правда. Он ожидал увидеть что-то похожее на то, что было у меня с Эдуардо. Он возбудился, прочитав мой сон о Джун и еще кое-что. «Конечно, — сказал он, — ты как Нарцисс. Это основная тема твоего дневника. Желание вести дневник — это своего рода болезнь. Но ничего, это очень интересно. Я никогда не видел более интересного дневника. Я никогда не знал ни одной женщины, которая могла бы писать так откровенно».
Я возразила, потому что всегда считала, что Нарцисс — тот, кто любит только себя самого, и мне казалось…
Но Генри сказал, что это все равно называется нарциссизмом. Я почувствовала, что ему очень понравился мой дневник. Он принялся дразнить меня Фредом, говорил, что боится, что я отдамся Фреду так же, как Эдуардо, без всякой симпатии, просто из жалости. Он ревновал. С этими словами он целовал меня.
Вернулся Хьюго. Он выглядит моим сыном. Я чувствую себя старой и опытной, но все равно ощущаю необыкновенную радость и нежность к нему. Я лежу в свежей постели, я страшно устала. Все, что я уношу от Генри, имеет необъятные размеры, это для меня неподъемно.
Я засыпаю исключительно от того, что мне слишком тяжело. Я засыпаю, потому что час, проведенный с Генри, равен пяти годам жизни, а одна его фраза, одно ласковое прикосновение заменяет ожидание сотни ночей. Когда я слышу, как он смеется, говорю, что он похож на Рабле. И я глотаю его смех, как хлеб и вино.
Вместо того чтобы проклинать, он распространяется все дальше и дальше, восполняя все пробелы, которые он допустил из-за непомерно больших шагов, какими он двигался в отношениях с Джун. Он отдыхает от страдания, от муки, от драматизма, от безумия. И он говорит мне «Я люблю тебя» таким голосом, какого я никогда не слышала. Он как будто хочет впечатать в меня эти слова.
Я засыпаю в его объятиях, и мы забываем довести до конца наше второе соитие. Он спит, погрузив пальцы в мою медовую мякоть. Засыпая вот так, как сейчас, я, должно быть, нашла способ избавиться от боли.
Я иду по улице уверенным шагом. В мире существуют только две женщины: я и Джун.
Анаис:
— Сегодня я откровенно ненавижу вас. Я настроена против вас.
Алленди:
— Но почему же?
— Потому что мне кажется, что вы отобрали у меня ту слабую уверенность в себе, которая существовала. Я чувствую себя униженной, потому что открылась вам, я ведь так редко бываю откровенна.
— Вы боитесь, что вас будут меньше любить?
— Да. Совершенно верно. Я живу в своего рода раковине и стараюсь ее сохранить. Я хочу быть любимой.
Я рассказываю, как по-детски веду себя с Генри, потому что им восхищаюсь. Как боялась, что Генри перестанет меня хотеть из-за этого.
Алленди:
— Напротив, каждый мужчина любит чувствовать свою значимость и нужность, и это чувство в него вселяете вы.
— Я сразу же представила, что он разлюбит меня.
Алленди поражен невероятным масштабом моей неуверенности в себе.
— Для психоаналитика это, конечно, очевидно, даже по вашей внешности.
— По моей внешности?
— Да. Я сразу же заметил, что постоянно обольщаете. Так ведут себя только люди, неуверенные в себе.
Мы посмеялись.
Я рассказала ему о том, как мечтала увидеть отца на моем танцевальном концерте в Париже, но оказалось, что он в это время был в Сен-Жан-де-Люз. Это меня просто убило.
— Вы хотели, чтобы он присутствовал. Вам хотелось удивить его. В то же время вы боялись. Но из-за возникшего в глубоком детстве желания соблазнить отца и из-за вашей неудачи у вас развилось и укрепилось сильное чувство вины. Вы хотите удивлять и покорять своими физическими достоинствами, а когда это удается, что-то останавливает вас. Вы говорите, что с тех пор перестали танцевать?


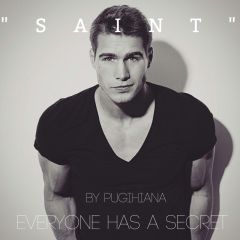

![Ульяна Соболева - Пусть меня осудят...[СИ]](/uploads/posts/books/124/124.jpg)