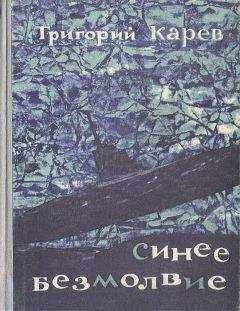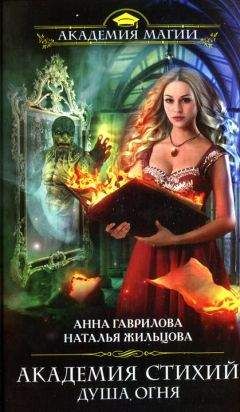Урфин Джюс - Зарисовки.Сборник
Мать не спеша спускается по ступеням и, затаив в межбровной морщинке сотню вопросов, подходит к отцу. Он обнимает ее и очень тихо, так чтобы слова не застряли в ушах бурно знакомящейся друг с другом троицы, произносит:
– Это сын Никиты.
Горестные складочки жестко очерчивают возраст отца и тут же отбликовывают на лице мамы похожим выражением.
Я смотрю на полыхающую макушку, на осторожные глаза, перебегающие от меня к близнецам. Мальчишка весь какой-то угловатый: худые руки, голенастые ноги, острые скулы. Заноза. Где-то внутри твердым камушком сворачивается настороженность, не позволяющая мне улыбнуться навстречу робким, но острым взглядам, которыми исподтишка обстреливает мальчишка.
На столе ярким ворохом фотографий раскинулось прошлое. Оно улыбается белозубо, радостно, оно сочится насыщенным счастьем и полнотой жизни и вызывает где-то внутри щемящую тоску от непричастности. На фотографиях другой отец. Не просто молодой, полный сил жгучий красавец. Совсем другой. На склоне горы, покрытой ослепительно-белым хрустким снегом, в расстегнутом комбинезоне, он обнимает второго, такого же искрящегося. Они оба кажутся такими счастливыми, их переполняет такая энергия, что снимок страшно тронуть, кажется, он стукнет разрядом этой бьющей через край молодости. Еще снимок, почти домашний: сонный отец, присев на подоконник, баюкает в руках большую кружку с чаем. Рядом с ним на стуле сидит тот же самый человек. Он запустил свои пальцы в ежик светлых волос, глаза закрыты. Они улыбаются – отец глазами, тот, другой, губами. Но улыбаются одинаково. Никита. Друг отца. И в любом кусочке прошлой жизни есть эта синхронность чувств, есть это чувствующаяся в любом жесте связь, есть это счастье.
– Это твой отец. Никита.
Ярослав жадно всматривается в снимки, ворошит их, перебирая то быстро-быстро, то медленно. Впивается взглядом в одну из фотографий.
– Он был хорошим? – выдавливает он комок пронизанной слезами боли из горла.
Отец молчит. Берет у мальчика из рук фотографию, нахмурившись, пристально рассматривает ее:
– Он был лучшим, Ярик. Лучшие не бывают хорошими, у них на это не остается сил. Я очень любил твоего отца. Мы были как… братья. Выступали в одной команде. Он был уникальным…
Я, проглотив накопившуюся горечь, тихо выхожу из комнаты. Никита! Его смерть сильно ударила не только по отцу. Она шарахнула по всей семье разом. Отец ушел из спорта. Навсегда. Но он не просто ушел, он забрал все – горы, лыжи, скорость, ветер, толкающий в грудь и вырастающий крыльями за спиной, – и у меня, запретив заниматься горнолыжным спортом. Перевез семью подальше от гор, оставляя внутри заунывную тоску. Я долго перебирал одно увлечение за другим: плаванье, гимнастику, борьбу, бокс, но так и не вернул себе то разрывающее нутро счастье, что дарили белоснежные трассы и кусающий лицо ветер. Не смея, не умея ненавидеть отца, я перенес свою обиду на это имя. Никита…
Спустившись по ступенькам террасы и прижавшись к стене дома, вдыхаю запах перебродившего летнего воздуха, смотрю на удивительно крупные сколы звезд. Мне нужны время и тишина, чтобы унять волну вскипевшего застарелого гнева. Дверь, тихо скрипнув, высвечивает на земле квадрат света – отец, шагнув на террасу и тяжело опершись на перила, молча смотрит на эти же звезды. В квадрат света выплывает силуэт матери. Она, прислонившись к косяку, глухо говорит:
– Иногда мне кажется, что ты любил его больше, чем можно мужчине.
– Я любил его меньше, чем нужно было, – так же глухо отвечает отец.
Я еще сильнее вжимаюсь в стену дома, не желая понимать то, что звучит в ответе отца. Не желая даже думать об этом.
***
Злые зеленые глаза в обрамлении склеенных от слез потемневших ресниц. Обветренные губы, изгрызенные в попытке не разреветься. Наливающийся, пока еще красный синяк на острых скулах.
Я, скрестив руки на груди и широко расставив ноги, взираю на мальчишку:
– Повтори, что ты сказал?
– Вы мне никто! – полузадушенно и раздроблено слезами.
Рука оставляет точно такой же синяк на другой стороне лица Ярика.
– Будешь расстраивать такими словами отца и мать, я на тебе живого места не оставлю. Понял?
Губы Ярика, уже не слушаясь, дрожат в сдерживаемом плаче.
– Ты заноза, рыжая неблагодарная дрянь. Они для тебя не жалеют ничего. А ты им в лицо такое бросаешь?
Мне восемнадцать. Я закончил первый курс иняза и вернулся на лето домой. В телефонных разговорах мама, тяжело вздыхая, говорила «трудный подросток», близнецы горячо защищали, бросая «он же рыжий, заноза», отец вздыхая обещал, что «Ярослав перерастет».
Ярик бросается к стене. Содрав с нее фотографию лучезарного блондина, швыряет ее на пол.
– Я не ваш. Я чужой! И даже на него я не похож!
Перехватываю рванувшего к двери подростка и, скрутив его, тесно прижимаю к себе, пытаясь унять бьющееся пламенем тело. Слышу ладонями заполошный птичий стук сердца.
– Не похож. Не похож. Но наш. Мой. И спрос будет как со своего. Понятно? – подтаскиваю его к кровати, бухнувшись на нее, укачиваю мальчишку и, уткнувшись в его макушку, шепчу.
Ярик всегда доводит все до крайности. Если злость – то оголтело стучащая в висках, если нежность – выворачивающая наизнанку сердце, если страх – до мурашек по спине и поджавшегося живота.
Горячими пальцами смазываю влагу, затянувшую медные ресницы, обвожу припухшие от ударов скулы. Пытаюсь стереть лепесток родинки под нижней губой. Хочу заласкать, зацеловать эти глаза, эти скулы, заложить в самое сердце рыжика свои слова. Ярик, тяжело и хрипло дыша, заклинивает свои руки на моей шее, мокро и горячо дышит в ключицу, под ладонью ходуном ходит тощая спина. Он пахнет терпкой подростковой горечью. Всего понемногу: чуть-чуть щенка, чуть-чуть полыни, чуть-чуть сигарет, чуть-чуть нагретых солнцем перезревших фруктов.
***
Третий курс, сложный и самостоятельный. Чувствую себя оторвавшейся лодкой, которую уже далеко отнесло от родного берега, но четкого направления нет. Я летаю по подработкам и все реже появляюсь на пороге родительского дома, чувствуя себя уже гостем. Желанным, долгожданным, но гостем. Близнецы уже не виснут на шее, солидно протягивают руку для пожатия. Замолкают на полуслове, если я вдруг оказываюсь в зоне слышимости, и неуверенно прощупывают почву, тут же сворачивая разведывательный лагерь, стоит мне чуть нахмуриться на вольности. Яр дичится пуще прежнего, отмалчивается и ускользает из комнаты, если вдруг мы остаемся наедине.
Лето подкинуло последние каникулы – на практику меня отправляют в родной город вожатым в детский лагерь. Родители с облегчением спихивают впридачу трех оболтусов, которых удается пристроить в первый отряд. Но они фактически всегда крутятся рядом, укрепляя ослабленные нити родства. Близнецы как губки впитывают щедрость южной природы, пропитываются ранней томной зрелостью, провожают влажно блестящими глазами женщин. Тормошат меня, требуя новых впечатлений и эмоций, постоянно выбиваются за рамки дозволенного. Ярослав другой, вместе с ними, рядом, но другой. Он, насмешливо кривя свой яркий рот, сыпет колкостями и с молчаливым упрямством отгораживается. Настороженно следит за мной, почти не таясь. Я уже даже привыкаю к блуждающим за мной зеленым глазам. Сам отыскиваю эту россыпь темного золота среди других голов, если он перестает мелькать вместе с близнецами то тут, то там.