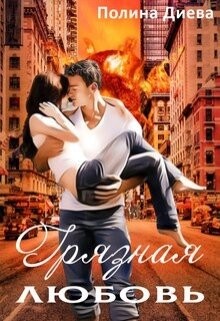Любовь цвета боли 2 (СИ) - Жилинская Полина
Всё погибло. Ничего не отмотать назад. Впереди лишь пустота и боль.
До меня в этот момент четко доходит, что я снова осталась одна. Разбитая, сломанная, никому не нужная кукла. Мужчина, нежно гладящий меня по голове, лишил меня всего. Веры в светлое будущее, безмятежной жизни, любви, себя.
Зарывшись пальцами в мои волосы, он прижимается губами к виску, второй рукой успокаивающе водит по спине. Не выдержав, захожусь в беззвучных рыданиях, до боли кусая губы. Видит бог, мне так хочется прижаться к его груди и выплакать всю боль. Несмотря на всё случившееся, я умираю и от любви, которую мы собственноручно похоронили заживо.
Я набираюсь сил на последний рывок. Не уверена, что после этого от меня хоть что-то останется. Мне нужно изгнать Макара из сердца. Вырвать с мясом, без анестезии. Я позволяю себе небольшую слабость, потому что прощаюсь. Прощаюсь с чувством, из-за которого ещё хоть что-то живо во мне.
Не знаю, сколько я так просидела, убаюканная теплой водой, бессвязным гортанным шепотом и размеренными поглаживаниями. Как будто в невесомости. Странное чувство. Внутри всё горит в агонии, а тело будто парализовано.
Оказывается, вот так легко можно разрушить весь мир человека. Оставить после себя лишь дикую агонию, разруху и пепел.
Глава 15
Макар
Когда-то я думал, что ничто не способно пошатнуть возведенную мной в далекой молодости крепость из отчужденности и уверенности в правоте своих действий.
Долгие годы я создавал ее, четко определившись, чего хочу от жизни. Стоя в восемнадцать лет в вонючем бомжатнике, который когда-то был мне домом и, глядя на женщину, которая меня родила, я размолотил в бетонную крошку свой юношеский максимализм и наивность. Столкнулся лицом к лицу с жестокой правдой жизни. Если не пожалела родная мать, кто-то другой пожалеет вряд ли.
В тот день я заложил прочный фундамент своей крепости. Ее начало. Год за годом я взрослел, падал, поднимался и снова двигался вперед. Вместе со мной росла и крепость, в стены которой я безжалостно укладывал чужие судьбы, мечты, желания, если они шли вразрез с моими или мешались на пути. Сцепив зубы, я строил свою идеальную жизнь, где не было места жалости, состраданию и прочей дребедени в виде чувств. Не оглядывался назад и ни о чем не сожалел. Потому что твердо знал: там, за спиной, я оставил несчастливое детство, голод, нищету и вероломное предательство женщины, которая своим поступком нанесла мне гниющую, незаживающую рану.
Но сейчас вдруг понимаю, словно прозрел, что моей крепости давным-давно уже и нет. Что я, обнаженный, стою в начале своего пути. На том самом фундаменте разбившихся надежд и дикой боли от предательства.
Что Оля, моя светлая девочка, незаметно и совершенно безболезненно ее разрушила. С любовью и решительным упорством она вынимала кирпич за кирпичом, перемалывая их в пыль и труху. Ломала стереотипы, раздвигала границы и меняла мои взгляды на жизнь. Меняла меня. Мир из черно-белого вдруг стал цветным. Вкусным, живым, с ахуенным ароматом спелой вишни.
В оглушающей тишине я смотрю ей вслед и не могу вздохнуть. Воняет. Сухой штукатуркой и бетонной пылью.
Это похоже на взрыв, испепеляющую яркую вспышку, которая в момент выжигает всю ярость и злость, оставив после себя тотальное опустошение.
Обвожу взглядом разгромленную гостиную, будто впервые вижу, что натворил. На диван не смотрю. Незачем. В памяти достаточно четко выжглась картина испуганной, рыдающей девочки. Моей девочки. Моей Оли. И осознания, какой чудовищный поступок я чуть не совершил.
Пошатываясь, бреду к выходу. Я абсолютно трезв, хотя выглушил столько виски за эти дни, что хватило бы обезвредить стадо слонов.
Замечаю на усыпанном осколками полу небольшие алые пятна. Иду по ним — к ней. У самой двери, уже нажимая на ручку, слышу душераздирающий женский крик.
В этот момент мне хочется вырвать себе язык, отрубить руки и, долго хрипя, захлебываться собственной кровью. За каждое брошенное в бессильной ярости слово, за каждое касание, которое причинило боль моей девочке. Я захожу, полностью уверенный, что готов столкнуться с последствиями. И оказываюсь ни хера не готовым к тому, что открывается моему взору.
Оля сидит в полупустой ванне, раскачиваясь из стороны в сторону. Хрупкая, тоненькая, почти прозрачная. Замирает, будто учуяв мое присутствие, прикрыв глаза, тяжело сглатывает.
Обессиленно опускаюсь на колени и осторожно веду трясущейся ладонью по ее спине. Дергается и дрожит мелко, еще больше сжимаясь в комок, а мне выть хочется. Страшно видеть Олю такой. На себя не похожей. Безжизненной. Сломанной. Пустой.
А потом она смотрит — и я захлебываюсь от того, сколько нежности и неподдельной любви в ее взгляде. После всего… Господи, как же Оля смотрит на меня. С едва заметной мечтательной улыбкой на истерзанных губах, с горьким сожалением и праведной обидой. Меня словно в кипяток живьем окунают от понимания, что она прощается. Закапывает на самом дне в своем сердце, под толстым слоем трухи и пыли. Что больше так никогда не взглянет.
Отворачивается, прячась, и заходится в беззвучном крике. Прижимаю Олю к себе, уткнувшись лицом в волосы, шепчу, что не позволю. Откопаю, воскрешу, умолять буду.
Сдергиваю полотенце с сушилки, подхватываю Олю на руки и бережно укладываю на кровать. Цепляется тонкими пальцами за влажную ткань, сжимается вся, а я в полной мере ощущаю свою ничтожность. Я и есть ничтожество. Нет во мне ничего святого.
Приношу антисептик и под истошные всхлипы вынимаю мелкие осколки из маленьких ступней. Целую каждую ранку и собираю губами соленые слезы, зарываясь пальцами в шелковистые волосы.
Уже почти засыпая и всё еще изредка всхлипывая, Оля распахивает глаза и шепчет сбивчиво:
— Мне мама всегда говорила: всё обязательно будет, как ты мечтаешь, так, как должно быть, только подожди, помни, что сахар всегда на дне. И я всю жизнь мужественно глотала горькую жижу. Смирялась, боролась пила глоток за глотком в слепой надежде, что вот-вот допью до дна…
Не дышу, пока слушаю сорванный хриплый голос. Как завороженный, смотрю на прозрачные слезинки, бегущие по бледным щекам.
— Не могу больше. Я очень устала. Думала, вот оно! — усмехается горько, а у меня кишки узлом сводит от жгучих ноток разочарования в ее голосе. — Но ты оказался лишь жалкой подделкой. Суррогатом. Я тебя ненавижу, — тихо. — Сегодня ты навсегда умер для меня. Мужчины, которого я любила, больше нет. Есть НИКТО. Жестокое, бессердечное, эгоцентричное НИКТО.
Глава 16
Макар
Оля спит, а я сижу в кресле и смотрю на нее. Прислушиваюсь к ровному дыханию, скольжу взглядом по подрагивающим ресницам, по потрескавшимся губам, острым скулам. Похудела, под глазами залегли тени, бледная.
Смотрю и думаю. Много думаю. И чем дальше, тем противоречивее становятся мысли.
Ревность. Никогда прежде не испытывал ее. Она ядовитым плющом оплетала мой разум, ослепляла. Питаясь бессильной яростью и гневом, проникала внутрь меня, отравляя душу. Когда волна гнева стихала, его место занимало отвратительнейшее чувство никчемности и неполноценности.
Тяжело признавать себя ненужным, нелюбимым, преданным. Особенно женщиной. Любимой женщиной. Это словно поединок на рапирах с умелым противником, который наносит четкие удары в самые уязвимые места смоченным в яде острием клинка.
И бессилие — теплая, вязкая субстанция, от которой нет способа отмыться. Я понимал, что могу сокрушить весь мир, убрать с пути любое препятствие, разрушить чью-то жизнь, сломить волю, но бессилен перед Олей. Перед ее чувствами к другому. Если бы я знал средство вытравить из Олиной головы мысли о Викторе, я бы без зазрения совести им воспользовался. Но я варился в котле бурлящего масла, медленно погибая сам и убивая ее. По-другому не мог. Первое время старался. Правда, старался, потому, как сам себе не доверял.