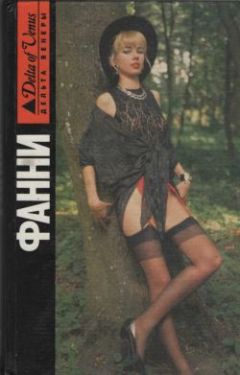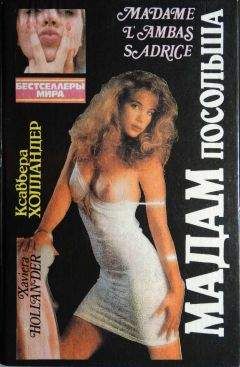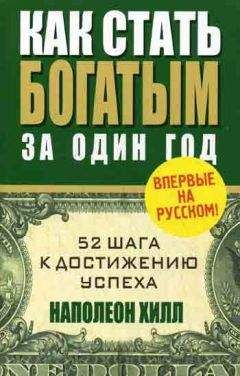Виктор Маргерит - Моника Лербье
— Но ведь вы конец мира пророчите, — воскликнула в ужасе тетя Сильвестра.
— Нет, мадам, конец только известного мира. Конец преступлений на почве страсти, конец лицемерия, предрассудков. Возврат к законам природы, которые современный брак не признает.
— Я надеюсь, — улыбнулась Моника, — что эту теорию вы вашим ученикам все-таки не преподаете? Разве как парадокс.
Она встала. Но, услыхав, что Режи Буассело интересуется мнением Виньябо по поводу полового инстинкта, как он представлен в книге «Введение в психоанализ» профессора Фрейда, она стала слушать с любопытством.
И в то время, как старый учитель отвечал на вопрос, подчеркивая каждую фразу подергиванием бородки, она рассматривала этих трех мужчин, так не похожих на тех, кого она привыкла видеть.
Самым симпатичным из них был, конечно, Виньябо, несмотря на его слегка сутулую спину, маленькие ножки в слишком коротких неглаженых брюках и словно вырезанные из каштанового дерева угловатые черты.
В его глазах светилось столько ума и проницательности, в складке рта таилось столько снисходительного остроумия и чуткости, что он весь точно сиял изнутри.
Другой, этот Буассело, роман которого «Искренние сердца» — терпкий и волнующий — она вспомнила сейчас, мог высказывать сколько угодно прекрасных идей о ревности и браке. Они, конечно, соответствовали ее личным убеждениям, но даже за это Моника не могла простить ему такого полного отсутствия элегантности во всей наружности. Высокий, мускулистый, с узловатыми руками, со странными кошачьими глазами на изрытом морщинами лице, Режи Буассело производил впечатление хищника с удивительно нежным сердцем.
Добрый и интересный малый, ему можно симпатизировать — вот и все…
Что касается третьего оратора, маленького, сдержанного, с бритым лицом молодого епископа, то сквозь его профессорскую внешность Моника угадывала аффектацию уверенного в себе скептика.
Порядочный болтун этот Бланшэ! Может быть, в теории и великодушный, но красноречивый эгоист по существу.
Несмотря на идеи, которыми он жонглировал и которые, несмотря на ее протестующие ответы, часто совпадали с ее собственными, Моника находила неприличными и даже лично для себя оскорбительными его мнения о судьбе браков вообще и, в частности, о ее собственном.
Да, она будет исключением, как бы этот тип ни думал!
Несмотря на все свои ораторские ухищрения, он ее совершенно не разгадал.
Ах, с каким упорством, с каким напряжением воли она сумеет и создать и защитить свое счастье.
Моника вздрогнула. Виньябо неожиданно замолк.
— Значит, мне достаточно прочесть Жюля Ромена, чтобы быть осведомленным насчет Фрейда? — спросил Буассело.
— Вы будете тогда знать о его «психоанализе» ровно столько же, сколько знаю я, или, яснее выражаясь, — обратился он к Монике, — об анализе психического содержимого в человеческом существе. Но какая же это клоака, друзья мои! Если верить по крайней мере г-ну профессору Фрейду, который, впрочем, со своей австрийской премудростью ничего нового не открыл… Такова уж их Цюрихская школа.
В науке и искусстве мы более приспосабливаем, чем созидаем.
— Вы всегда остаетесь самим собой, — сказала с восхищением тетя Сильвестра. — Прост — как все истинные ученые.
— Ну! Ну! Ну!..
Он утверждал, что без специализации даже величайшие умы распыляются в безбрежных сферах знания. Наше познание ограничивается только полем зрения нашего же микроскопа — и то еще до известного предела. Одни светские шалопаи да мишурные критики могут рассуждать о чем угодно: вчера о бергсонизме, завтра об энштейнизме. Однако он очень интересовался чужими трудами и ревностно пропагандировал при каждом удобном случае молодых.
— Ну, что ты по поводу всего этого думаешь? — спросила тетя Сильвестра, спускаясь по лестнице.
— Виньябо очарователен. Но другие…
— На тебя не угодишь, — проворчала старушка, забывая, что ее возрасту свойственны иные взгляды на жизнь. — Жорж Бланшэ тоже очень мил. Режи Буассело оригинален. Но сознайся по крайней мере, что мы прекрасно провели время. И подумать только, для скольких иностранцев да и парижан ничего не существует кроме Монмартра…
— Правда, этот холм загораживает от них Коллеж де Франс.
Занавес опустился после первого акта «Менэ».
— Очень мило, — безапелляционно изрекла мадам Лербье, поворачиваясь к дочери.
— Уф!.. — вздохнула Моника.
— В тебе вечный дух противоречия…
Она поправила на круглом плече соскользнувшую бретель.
— Сегодня избранная публика, — сказал г-н Лербье, наводя бинокль на зал. — Чувствуется сочельник.
Космо-театр, только что занятый иностранной опереткой, с оркестром в виде возвышающейся корзины, с ярусами открытых лож сверкал во всем своем великолепии. Парадный спектакль сочельника совпал с премьерой — Алекс Марли в роли Менелая. Мужчины во фраках, дамы в декольтированных платьях. Бриллианты и жемчуга, как капли росы, осыпали и юные и поблекшие женские тела, обнаженные в вырезах легких платьев от подмышек до пояса.
Все это было похоже на рынок рабынь, обозреваемый купцами и любителями.
Одним взглядом они оценивали изгиб торса, обнаженные руки, груди в вырезах платьев. Пышно взбитые прически — от иссиня-черных до бледно-золотых нимбов. Излишне подчеркнутая косметика придавала этой выставке лиц неподвижность раскрашенных масок.
Все это двигалось, сверкало, шумело, наполняло теплый воздух животным испарением человеческого тела, смешанного с ароматами духов. Обменивались поклонами, дружескими приветствиями.
Мадам Лербье заметила в первом ряду парик барона Пломбино, генеральшу Мерлэн с мужем, похожим во фраке на старого канцелярского чиновника, мадам Тютье с «чрезвычайно анонимным» бывшим министром, г-на де Лота с дочерью, фамилия которого давала повод к самым двусмысленным остротам.
Сесиль Меер изволил очнуться от своего элегантного сплина и издали поклонился Монике.
— Посмотри-ка, — сказала м-м Лербье, — вот там в закрытой ложе около колонны… М-м Бардино и м-м Жакэ… Мишель с тобой здоровается. Но кто это с ними?
Мужчина обернулся. Моника улыбнулась.
— Макс де Лом!
— Антиной? Что он там делает? Ухаживает за Мишель? Не может быть… Она ведь выходит за д'Энтрайга… За ее мамашей, скорее — в надежде на премию Жорж Санд?.. И то нет!.. Он и без этого уверен, что ее получит. Значит, за Понеттой? Эге!
В ложе Абрама Ротшильда сидит Рансом, но не видно Лео… Значит, действительно наша национальная скаковая кобыла задумала переменить грума…