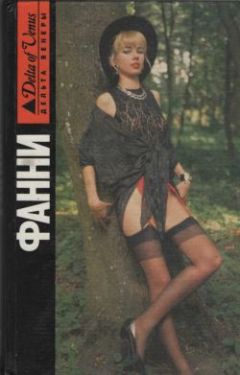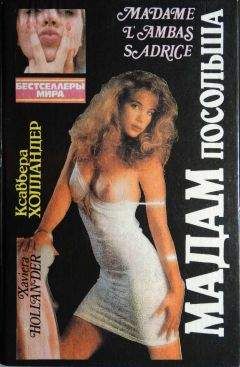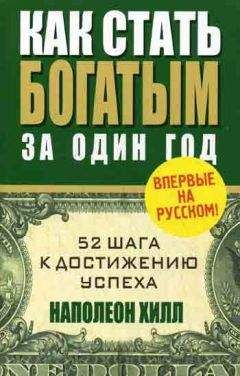Виктор Маргерит - Моника Лербье
— Но простите меня, я сегодня немножко расстроена… Вернувшись домой, я получила анонимное письмо, о котором скажу вам только одно: я его сожгла и не поверила ни одному слову, написанному там.
Он нахмурил брови, но очень спокойно ответил:
— Напрасно вы сожгли эту гадость. Там могли быть интересные данные для разоблачения автора.
Она хлопнула себя по лбу:
— Так вы думаете, что оно написано мужчиной. Как я сама не догадалась!
Моника внутренне уже упрекала себя, что заподозрила месть женщины. В его поведении, а также в этом непредвиденном ею предположении было новое доказательство его невиновности, в котором, впрочем, при своей доверчивости она, в сущности, не нуждалась.
— Что бы там ни было написано, — добавил он в заключение, — я думаю, мне не нужно уверять вас, что все это ложь…
Она нежно закрыла ему рот рукой.
— Я ни секунды и не верила.
Один за другим он целовал ее трепещущие пальцы и, успокоенный, подтвердил:
— Ведь я вам дал слово. С того дня, как мы стали называться женихом и невестой, я отдал вам взамен вашей руки преданное сердце. — Он понизил голос. — А после того, что произошло третьего дня… — и посмотрел на Монику загоревшимся взглядом.
Краснея и вздрагивая от воспоминаний, она положила голову на его сильное плечо, и оба они слились в едином желании…
Легкомысленно, без проблеска раскаяния Люсьен склонился к ее губам, раскрывшимся ему навстречу, как цветок, и запечатлел на них свою преступную клятву долгим и страстным поцелуем.
Тетя Сильвестра, не привыкшая к парижской сутолоке, с беспокойством следила за быстрым ходом автомобиля, лавирующего между трамваями, автобусами и бесчисленными таксомоторами. Едва не задевший их автобус заставил ее невольно вскрикнуть: «Боже мой!»
Моника сжала ее руку.
— Не бойся! Мариус отличный шофер.
После вчерашнего объяснения улыбка не сходила с ее губ.
В то время как остаток ночи Люсьен проводил у любовницы, она спала беспечным детским сном и проснулась утром в безоблачном настроении. Предстоящий визит к профессору Виньябо ее радовал и забавлял. Ей было приятно сопровождать как старшая милую старушку, ее воспитательницу, которую годы в провинциальной глуши мало-помалу отдалили от жизни.
— Ты помнишь Елизавету Меер? — спросила Моника. — Лизу? Я встретила ее месяц назад — теперь леди Спрингфильд… У нее двое прелестных детей и муж — государственный деятель. Она стала теософкой и спириткой.
Тетя Сильвестра пожала плечами.
— Слишком приближаясь к Богу, уходишь от людей… Правда, она никогда их особенно и не любила.
Моника улыбнулась на это определение нового мистического увлечения Елизаветы Меер — леди Спрингфильд и по контрасту вспомнила ее младшего брата — красавца Сесиля Меера — филантропа и художника-любителя.
— Сесиль, — это совершенная противоположность сестры. Тетя Сильвестра возмущалась:
— Тогда, помнишь, какая она была? И теперь… Болезнь какая-то, заблуждение! Старею я, что ли, или все в жизни пошло навыворот, но твой Париж меня ужасает. Ах, то ли дело мой тихий уголок! Но вот улица Медичи, 23/29. Мы приехали.
Моника радовалась встрече с профессором Виньябо почти так же, как тетя Сильвестра.
Старый холостяк — знаменитый историк, слава Французского коллежа — и скромная директриса пансиона с далеких студенческих дней в Латинском квартале поддерживали старинную дружбу. Мадемуазель Сильвестра любила иногда побыть в этой атмосфере здорового скепсиса и философских рассуждений. Обе весело поднимались на пятый этаж, выходящий окнами в Люксембургский сад.
Ветхая лестница, одностворчатая входная дверь, в передней пальто и шляпы учеников — все здесь говорило о жизни скромной, почти бедной. Моника и тетя Сильвестра обменялись сочувственной улыбкой. Они предпочитали эту благородную бедность тщеславной роскоши самых пышных дворцов.
— А, моя дорогая Сильвестра! — воскликнул профессор Виньябо, поправляя на своем сократовском черепе съехавшую от изумления шапочку. — Как я рад вас видеть! И вас тоже, мадемуазель… Позвольте вам представить… господин Режи Буассело, романист, господин Жорж Бланшэ — профессор философии в Кагоре, один из моих учеников.
И, теребя привычно-машинальным жестом свою бородку, точно вытягивая из нее нить своей речи, он продолжал говорить после обмена взаимными приветствиями.
— Я вам только что доказывал, насколько брак, принятый нашим буржуазным обществом, противен законам природы. Я прошу прощения у дам — мне нужно закончить разговор с господином Бланшэ, который советовался со мной по поводу его диссертации «О браке и полигамии», как раз на тему последней главы моей «Истории нравов», начатой до 1914 г. Эволюция семейных принципов. Мы спорили сейчас по поводу одной книги…
Он указал на груду томов, заглавие которых Моника прочла на корешках: «Женщина и половой вопрос» доктора Тулуза, «От любви к браку» Елены Кей и на книгу в желтой обложке — «О браке» Леона Блюма.
— Я читала ее, — сказала Моника, — в ней много справедливых, остроумных и даже глубоких идей, но…
Она почувствовала устремленные на нее взгляды троих мужчин: улыбающийся — профессора Виньябо, неприязненный — романиста и иронически вежливый — третьего гостя.
— Продолжайте, мы просим, — сказал г-н Виньябо со своим ласковым добродушием и, обратившись к Жоржу Бланшэ, добавил:
— Вот еще для вас неожиданный материал. Пользуйтесь, мой друг!
Моника поняла неловкость своего положения среди этих ученых-психологов, которые, не зная ее, инстинктивно уже вооружались против ее светской болтовни всеми мужскими предрассудками, подкрепленными к тому же убеждением в собственном превосходстве, и, несмотря на поощрения обоих профессоров, упрямо замолчала.
Жорж Бланшэ понял ее смущение и любезно поддержал:
— Но мадемуазель высказывает такие чувства, которые без большого труда можно угадать уже по ее колебаниям в желании высказаться. Вместе с Леоном Блюмом я утверждаю, что человечество, собственно, создано для полигамии. Под «полигамией» же, точно определяя значение этого термина, я разумею инстинкт, заставляющий мужчину искать сближения со многими женщинами одновременно или последовательно, а также и женщину — со многими мужчинами, прежде чем каждый из них остановится на своем избраннике.
Моника сделала протестующий жест. Пусть он говорит о себе или даже о большинстве ему подобных, но за исключением Люсьена.
Утверждать же, что женщина… она почувствовала себя униженной, приравненной к какой-нибудь Жинетте или Мишель.