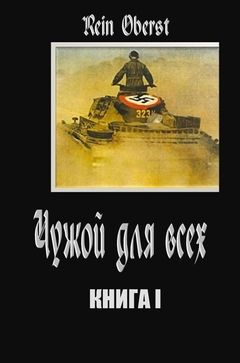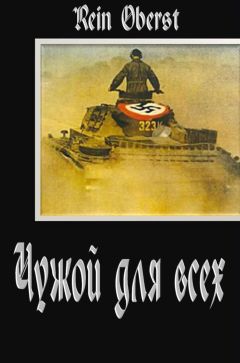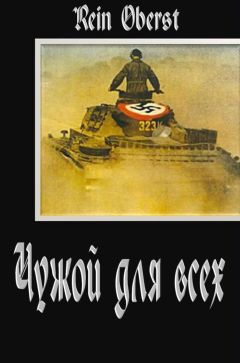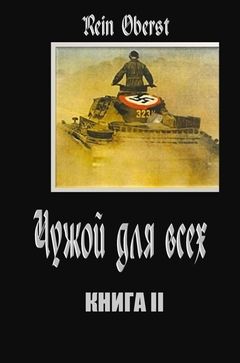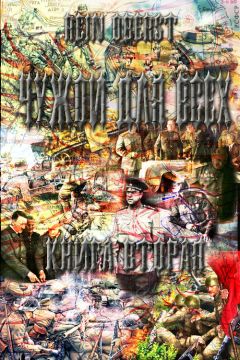Эшли Дьюал - У истоков Броукри (СИ)
Я знаю, что делаю.
Дожидаюсь вечера. Все это время сижу на подоконнике и смотрю за горизонт, такой серый и невидимый. С каждым днем он кажется все прозрачнее и прозрачнее. Однажды я открою глаза, а линия горизонта исчезнет, и тогда все мы станем свободными. Я искренне хочу стать свободной, и мне наплевать, что свобода обычно означает смерть.
Я знаю, что делаю.
Надеваю черный свитер, нахожу плотные перчатки. Волосы приходится скрутить в хвост, чтобы они не мешали. Обуваю толстые ботинки. В них удобно. Подхожу к зеркалу и прикасаюсь пальцами к порезу на щеке. Он длинный, тянется от уха до подбородка. Мне не кажется он уродливым, я вся в порезах, я к ним привыкла. Но вот люди…, они никогда не считают красивым то, что сильно выделяется. Теперь я — фрик. Но вместо того, чтобы в ужасе отстраниться, я придвигаюсь к своему отражению ближе и улыбаюсь. Безумие мне нравится, я с ним практически срослась, а главное — в безумии больше толка, чем в глухих и нелепых страданиях. Я безумна. И мне хорошо.
Я знаю, что делаю.
Выхожу из комнаты, не смотря на дверь в спальню брата. Решительно спускаюсь по лестнице, достаю из комода на выходе два больших пакета и проверяю содержимое.
— Что ты делаешь? — Неожиданно спрашивает меня незнакомый голос. Хотя, нет. Не незнакомый, просто непривычный. Поднимаю голову и вижу маму. — Куда ты собралась?
— Есть дело.
— Какое дело?
— Тебе интересно? — Зло усмехаюсь я и наклоняю подбородок. — Серьезно? Мама, ты немного опоздала. Теперь мне неинтересно.
Сьюзен де Веро не кажется больной. Если бы я не знала, что у нее умер сын, я бы уж точно не подумала, что у нее какие-то проблемы в семье. Она будто мертвая. Ее ничего не трогает. Абсолютно ничего. Траур закончился сразу же, как похоронили Мэлота. Теперь у него меньше шансов беспокоить ее, ведь он в шести фунтах под землей. От туда сложно и неудобно разговаривать.
— Куда ты идешь? — С нажимом спрашивает она и подходит ближе. — Вернись к себе.
— Нет.
— Адора, вернись в свою комнату.
— Нет, мама, не вернусь. — Равнодушно пожимаю плечами. — Я должна закончить то, что началось давным-давно, но у вас не хватило ни сил, ни мужества поставить точку.
— Что ты задумала? Мэлота не вернуть. Он умер. У тебя больше нет брата!
Безэмоционально смотрю на мать, пусть и ощущаю в груди пожар, раскалывающий на части тело. Что она сказала? Как она посмела? Я хочу ударить ее. Я чувствую, как руки сжимаются в кулаки, как желание растет, пульсирует. Но выдыхаю. Мне не зачем тратить на нее свое время.
Я знаю, что делаю.
Я выхожу из дома, не взглянув на нее, и следую к стене. Пакеты тяжелые, но я грубо сжимаю их в пальцах, да так, что ладони саднит. Иду к западным воротам, плачу охране и шепчу низким голосом:
— В ваших интересах забыть обо мне.
Мужчина отворачивается, нахмурив брови, а я прохожу через ворота и оказываюсь в Нижнем Эдеме. Утром казнили Марко Дамекеса. Поджарили на электрическом стуле. При мыслях об этом я растягиваю губы в улыбке. Чокнутый псих. Я рада, что он умер. Думаю, ему было больно. Еще больно было его сестрице. По телевизору показывали кадры, где у нее красные и опухшие от слез глаза, она сидит в зале и ревет. Слабачка. Я не плакала, а у нее сломались даже чувства. А казалось, будто Рушь Дамекес — кремень. Я ошибалась, как и на свой счет. Раньше я бы никогда не решилась на подобное, а сейчас уверенно следую к городскому госпиталю, как ни в чем не бывало. Будто гуляю. Дышу свежим воздухом. Не уверена, но скорее всего мое состояние называется нервным срывом. Странно, учитывая, что я ничего не чувствую: ни волнений, ни угрызений совести, ни-че-го.
Я накидываю на плечи белый халат и натягиваю на лицо повязку, затем подбегаю к одной из медсестер и прошу ее эвакуировать здание.
— Говорят, поджог! — Играю я, сверкнув глазами. — Нужно скорее увести людей. Твой первый этаж, а мой — второй!
Она мне верит. Тупая идиотка.
Я узнала, что по выходным тут работают новенькие. Они не знают друг друга, они в мечтах о мизерной зарплате. И им абсолютно наплевать на больных. Медсестер трое. Как такое возможно? Я едва не смеюсь, потому что все оказывается слишком просто.
Пока они занимаются первым этажом, я увожу тех, кто находится на втором. Дело в том, что здание само занимает этажей так восемь, но рабочих из них лишь два. Поэтому я не волнуюсь, что пострадает кто-то из невиновных. Проверяю несколько раз, опустели ли палаты, достаю из приготовленных пакетов две огромные канистры и заливаю коридоры. За мной тянется струя бензина. Я бездушно заливаю жидкостью помещения, не думаю ни о чем, просто делаю. Я оказываюсь удивительно ужасным человеком. С черным сердцем. Правда, потом я вспоминаю, что сердце не мое. Может, такой и была Катарина Штольц, и мы с ней смогли бы подружиться.
Я знаю, что не могу тянуть, потому захожу в палату номер двадцать три и начинаю, молча, поливать бензином пол, шторы, мебель, не моргнув глазом.
— Что происходит? — Не понимает Хельга. Она лежала на кровати, когда я пришла. У нее дикий вид. Она неуклюже приподнимается. — Кто здесь? Что вы делаете?
Не отвечаю. Я занята. Выливаю содержимое канистры и откидываю ее в сторону. Та со стуком налетает на стену, и по комнате разносится неприятный треск, будто сломалась чья-то жизнь. Так и есть.
— Что вы делаете? — Вопит Хельга. Думаю, она уже почувствовала запах, потому что на изуродованном лице у нее возникает леденящий душу ужас. Женщина падает с кровати и, пошатываясь, поднимается на ноги. — Саманта? Саманта, что вы делаете? Прекратите! Я не понимаю, я не…
— Меня зовут Адора, — равнодушно поправляю я.
— Адора? Вы не можете, вы же не такая, вы же…
— Один человек мне сказал: обида сменяется злостью, а злость — мыслями о страшной смерти.
— О чем ты говоришь?
— Вы обидели меня, миссис Штольц.
Я подхожу к женщине и грубо срываю с ее шеи медальон с именем Катарины. Она в ужасе вытягивает руки.
— Не надо…, не надо! — Она надеется сбежать. Я поворачиваюсь к ней спиной, а она в ту же секунду спотыкается о собственную трость, лежащую около кровати. Она падает, но я не смотрю на нее. Я стала другим человеком. — Помоги мне, прошу тебя, я делала это из-за дочери, я делала это ради Катарины!
Я останавливаюсь у двери. Морщу лоб и думаю: любовь не убивает? Эрих ошибался. Любовь косит похлеще болезней. Любовь — самая страшная сила, вмиг становящая лютой ненавистью. Любовь и есть безумие.
Я достаю из кармана зажигалку Мэлота и нажимаю на кнопку. Вспыхиваю пламя.
Смотрю на него, будто завороженная, шепчу:
— А я делаю это ради брата.