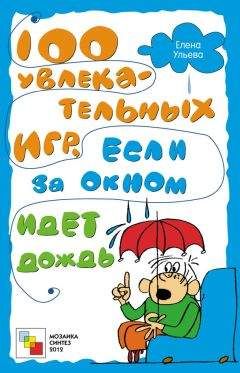Керстин Гир - Алый Рубин. Любовь через все времена
— Я нахожу, что моя линия по крайней мере визуально развилась прекрасно, — сказал граф. — Очевидно, при выборе дамы сердца я проявил известную ловкость. Явно выраженный нос с горбинкой полностью выродился.
— Ах, любезный граф! Вы опять пытаетесь поразить меня Вашими невероятными историями! — сказал лорд Бромптон, плюхаясь обратно на стул, который выглядел таким крохотным, что я побоялась, как бы он тут же не развалился на части. Лорд был не слегка округл, как мистер Джордж — он был исключительно толст! — Но я ничего не имею против! — продолжал он, и его поросячьи глазки довольно заискрилось. — С вами так интересно! Каждые две секунды сюрприз.
Граф засмеялся и повернулся к молодому человеку без парика.
— Граф был и остаётся скептиком, мой дорогой Миро! Нам надо придумать что-то новое, чтобы убедить его в нашем деле!
Мужчина ответил на каком-то резком и рубленом языке, и граф снова засмеялся. Он повернулся к Гидеону.
— Это, милый внук, мой добрый друг и духовный брат Миро Ракоци, в Анналах Стражей больше известный как Чёрный Леопард.
— Весьма рад, — сказал Гидеон.
Снова поклоны со всех сторон.
Ракоци — почему это имя показалось мне знакомым? И почему при виде него мне стало так неуютно?
Губы графа сложились в улыбку, когда его взгляд медленно скользнул по моей фигуре. Я автоматически попыталась отыскать сходство с Гидеоном или Фальком де Вильерсом, но не нашла ничего. Глаза у графа были очень тёмные, а во взгляде было что-то пронизывающее, что заставило меня сразу подумать о маминых словах. Подумать! Только не это. Но ведь мой мозг должен что-то делать, поэтому в мыслях я затянула «Боже, храни королеву».
Граф перешёл на французский, что я поняла не сразу, поскольку с воодушевлением пела национальный гимн. С некоторой задержкой и пробелами, вызванными моим недостаточным словарным запасом, я перевела это следующим образом:
— А ты, красивая девушка, являешься, значит, пробел доброй пробел Жанны Дюфре. Мне говорили, что у тебя рыжие волосы.
Мда, запоминание слов, видимо, действительно является альфой и омегой для понимания иностранного языка, как всегда утверждал наш учитель французского. Я, к сожалению, не знала и никакой Жанны Дюфре, поэтому мне не удалось полностью понять смысл предложения.
— Она не понимает французского, — сказал Гидеон, тоже по-французски. — И это не та девушка, которую Вы ожидали.
— Как это может быть? — Граф покачал головой. — Это всё в высшей степени пробел.
— К сожалению, на пробел была подготовлена не та девушка.
Да, к сожалению.
— Заблуждение? Всё это мне и так кажется сплошным заблуждением.
— Это Гвендолин Шеферд, она кузина упомянутой Шарлотты Монтроз, о которой я Вам вчера рассказывал.
— То есть тоже внучка лорда Монтроза, последнего пробел. И таким образом кузина пробел? — Граф Сен Жермен разглядывал меня своими тёмными глазами, и я в мыслях опять начала петь.
Send her victorious, happy and glorious…
— Пробел пробел — этого я просто не могу понять.
— Наши учёные говорят, что это вполне возможно, генетические пробел…
Граф поднял руку, прерывая Гидеона.
— Знаю, знаю! По законам науки это может быть верным. Но тем не менее у меня дурное чувство.
Да, тут мы с ним совпадали.
— То есть никакого французского? — спросил он меня, на сей раз по-немецки. С немецким у меня было немного получше (как-никак стабильная четвёрка уже четыре года), но здесь тоже обнаружились глупые пробелы. — Почему же она так плохо подготовлена?
— Она вообще не подготовлена, маркиз. Она не знает иностранных языков. — Гидеон тоже заговорил по-немецки. — И во всех других отношениях она тоже полная пробел. Шарлотта и Гвендолин родились в один и тот же день. Но мы ошибочно исходили из того, что Гвендолин родилась на день позже.
— Но как это могло остаться незамеченным? — Ах, наконец я понимала каждое слово. Они снова перешли на английский, на котором граф говорил без малейшего акцента. — Почему у меня такое чувство, что Стражи в твоё время больше не относятся к своему делу с надлежащей серьёзностью?
— Я думаю, ответ в этом письме. — Гидеон вытащил запечатанный конверт из внутреннего кармана сюртука и протянул его графу.
Буравящий взгляд вперился в меня.
…frustrate their knavish tricks, in Thee our Hopes we fix, God save us all…
Я с усилием отвела взгляд и стала смотреть на двух других мужчин. У лорда Бромптона, казалось, пробелов было ещё больше, чем у меня (его рот над многочисленными подбородками был приоткрыт, и он выглядел несколько глуповато), а второй мужчина, Ракоци, внимательно разглядывал свои ногти.
Он был ещё молод, вероятно, около тридцати, у него были тёмные волосы и длинное узкое лицо. Он мог бы смотреться очень хорошо, но его губы были искривлены, как будто во рту у него был гадкий привкус, и его кожа была болезненно-бледная.
Я как раз размышляла, не наложил ли он на лицо слой светло-серой пудры, как он внезапно поднял взгляд и посмотрел мне прямо в глаза. Его глаза были чернее ночи, и я не могла различить, где кончается радужка и начинается зрачок. Эти глаза выглядели странно мёртвыми, хотя я не могла сказать, почему.
Автоматически я снова начала мысленно декламировать «Боже, храни королеву». За это время граф сломал печать и развернул письмо. Вздохнув, он начал читать. Время от времени он поднимал голову и смотрел на меня. Я стояла, как стояла.
Not in this land alone, but be God’s mercies known…
Что было в письме? Кто его написал? Лорда Бромптона и Ракоци это, казалось, тоже интересует. Лорд Бромптон вытянул свою толстую шею, чтобы ухватить что-нибудь из написанного, а Ракоци больше концентрировался на лице графа. Очевидно, противный вкус во рту был у него с рождения.
Когда он снова повернул ко мне лицо, по рукам у меня пошли мурашки. Глаза выглядели как чёрные дыры, и сейчас я увидела, почему они кажутся мёртвыми: в них не отражался свет, не было тех искорок, которые делают глаза живыми. Я была рада, что между мной и этими глазами пятиметровое расстояние.
— Твоя мать, дитя моё, кажется особенно упрямой особой, верно? — Граф закончил чтение письма и сложил его. — О её мотивах можно только гадать. — Он сделал ко мне пару шагов, и под его буравящим взглядом слова национального гимна вылетели у меня из головы.
Но потом я увидела то, что из-за расстояния и из-за страха до сих пор не замечала: граф был стар. Хотя его глаза лучились энергией, осанка была прямая, а голос юношеский и звучный, следы возраста нельзя было не увидеть. Кожа на лице и руках была как сморщенный пергамент, голубовато проступали вены, на напудренном лице отчётливо выделялись морщины. Возраст придавал ему что-то хрупкое, что-то, что вызвало во мне почти сочувствие.