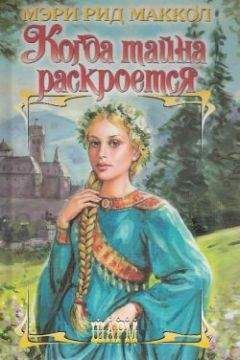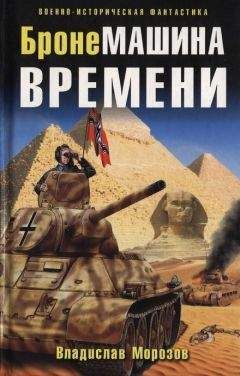Лариса Черногорец - Колыбель колдуньи
— Не даром ты за мной следил, признавайся.
Изящная фигурка Ксаны придвинулась ко мне так близко, что дух перехватило. Её венок касался моей головы. Она провела рукой по моей щеке.
— Не там ты, барин, где тебе кажется. Здесь все взаправду, и все так, как я тебе говорю. Не выдумка это — это явь. Я — потомственная ворожея, ворожеями были мать моя и бабка, и прабабка, и её прабабка, и так, сколько себя род людской помнит. Не ведьмами, не колдуньями, — ворожеями. Заговором и молитвой могу любую хворь вылечить, вижу прошлое и будущее. Знаю то, чего другие не знают.
— И что же ты знаешь?
— Про тебя, барин, все знаю, про барыню твою. Верь мне, барин, не в придуманном ты мире в настоящем. Здесь все настоящее.
— И ты?
— И я… — Её карие глаза в свете свечи были почти черными. Густые длинные ресницы были похожи на крылья бабочки. Её венок упал, блуза сползла, обнажая плечо. Она загадочно улыбалась, словно дразня меня. И тут в моей голове словно что-то щелкнуло, — словно невидимый выключатель — мне показалось, что мир вокруг перестал существовать, я видел перед собой только Ксану. Я коснулся её, как будто случайно. Она потянулась ко мне, и её рука скользнула вверх по моей, до самого плеча. Она была так близко и так хороша!
— Ты похожа на ночного мотылька.
— Ох, барин! Красив ты, барин, красив и силен. — Она едва коснулась губами моего виска. — И жарок как огонь. Не опалить бы крылья….
Я потерял голову — руки сами потянулись к ней, уже ничего не могло меня остановить.
— Ксана! Ты меня с ума сводишь, Ксана!
Я сжимал в своих объятиях нежное, хрупкое тело ворожеи, околдовавшей меня, отзывавшейся нежностью и страстью на каждый мой поцелуй, каждое прикосновение. Мозг отказывался возвращать меня в реальность, я тонул в бездне по имени Ксана. Я шептал её имя, и мне казалось, нет прекраснее имени на свете. Гибкое стройное тело горело в моих руках. Я никогда не испытывал ничего подобного ни с одной реальной женщиной. Запах хвои смешивался с запахом цветов её венка, рассыпавшегося по соломе лепестками и дурманящих голову. Пусть никогда не наступает утро, — я согласен, пусть, только бы быть с ней…
* * *— Что же мы наделали, — Алька шептала на ухо Григорию. — Гриша, что мы наделали!
В окне кузни брезжил рассвет. Волосы Альки переплетались с густой гривой Григория. Он смотрел на неё, не отрываясь.
— Не жалей, матушка, ни о чем не жалей! Пусть хоть минута счастья, пусть день, пусть месяц — но наши. Я тебя всегда любить буду, слышишь, всегда. Хочешь — умру за тебя, хочешь — убью за тебя. Лишь бы видеть глаза твои прекрасные, лишь бы слышать твой голос, лишь бы обнимать тебя, звездочка моя ясная…
— Ш-ш-ш. Тише. Мне пора. — Алька второпях натягивала платье, — помоги мне.
Григорий неумело пытался застегнуть крючки корсета.
— Не сердись, Алевтина Александровна, не привыкший я. Мои пальцы больше гвозди гнуть приспособлены.
— Бог с тобой, Гриша, я не на тебя сержусь — на себя.
— Не кори себя, ведь это душа твоя ко мне рвалась, а моя к тебе. Неужто тебе так плохо было со мной?
— Что ты, — Алька обняла Григория и прижалась к нему, — это была сказка, просто волшебный сон, вот только пора просыпаться…
Алька заплела косу и обернула её вокруг головы. Григорий держал её в объятиях, словно куклу, давая ей сделать небольшой шаг влево или вправо, но, не выпуская из рук, ни на мгновение. Она сходила с ума от прикосновений к его телу:
— Гриша. Как мне незаметно выйти отсюда?
— Теперь никак, только потемок ждать, либо идти открыто.
— Нет, только не открыто! Не сейчас! — Алька смотрела на Григория и лихорадочно думала, как же поступить.
— Воля твоя, матушка, только если сейчас пойдешь — следом сразу и пересуды по деревне пойдут. Оставайся!
— Меня прислуга потеряет — тревогу забьет.
— Не забьет, я пойду, скажу, что ты молишься в часовне в пяти верстах отсюда, вернешься вечером.
— Тебе не поверят.
— Поверят, матушка, поверят, я знаю, как сказать.
— И что ты предлагаешь? — она села на скамью около стены.
— Я кузню закрою, скажу, что уехал за дровами, а ты здесь схоронись. Я через час вернусь — принесу еды, до вечера здесь переждем, а вечером пойдешь домой.
Алька свернулась клубочком на лавке. Григорий погладил её по голове, как маленькую:
— Не казни себя, слышишь, не по своей воле ты замуж шла — по отцовской. Не твоя вина, что сердце твое меня вспомнило и ко мне рвалось, и не моя, что не сдержался — красоты такой на всем свете нет. Сколько лет прошло, а первая любовь не ржавеет, — верно, люди говорят. Алька чувствовала, как Григорий прожигает её взглядом, полным желания.
— Ты чего хочешь, скажи, я добуду, принесу! Не грусти, матушка.
Алька прижалась губами к уголку его губ:
— Ты сам приходи — мне ничего не надо. Возвращайся. Побуду с тобой дотемна. Кто знает — может больше и не придется…
Через час перед Алькой стоял импровизированный стол — наковальня, покрытая холщовой тканью, на которой красовался пузатый кувшин молока, румяные пирожки, чашка меда, кусок брынзы и пучок всевозможной зелени. Григорий легкими движениями отрезал от копченого окорока тонкие куски мяса.
— Кормить тебя буду, матушка. Коли сама кушать не изволишь, — силой кормить стану — он расплылся в добродушной улыбке. — Ну, сама посуди, где это видано, чтобы человек сутки голодным был.
Альку не надо было уговаривать. Она с волчьим аппетитом пустилась поглощать нехитрую, но очень вкусную и ароматную пищу. На минутку приостановившись, она спросила:
— Не войдет ли сюда кто?
— Матушка! — Григорий едва не поперхнулся, — ты глянь, какой засов на двери! Сам ковал, вот этими руками. — Он закатил рукав, обнажив бицепс. Алька пожала плечами:
— Так ведь засов с этой стороны, а с той стороны замка нет — подумает, может, кто чего-нибудь, начнут стучать, дверь ломать…
— Не беспокойся, — Григорий погладил своей огромной ручищей её по щеке, — я изловчился там замок так приладить, что кажется, будто закрыто.
Алька, успокоившись, впилась зубами в румяный бок пирожка:
— Гриша, я, кажется, знаю, кто убил твою жену.
— Кто же?
— Подумай сам. Доктор осмотрел рану и сказал, что убийца был невысок ростом и не силен, бил с небольшою силою и левой рукой. Либо это был левша, либо человек, у которого не работает правая рука.
— Машка… у нее правая рука сухая…нет, нет, Алевтина Александровна, даже не думай, — она мухи не обидит. Не знаешь ты её толком, вот и грешишь зря. Она как дитё малое — сама помрет, а мухи не обидит…