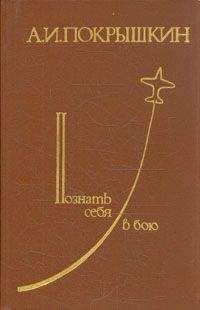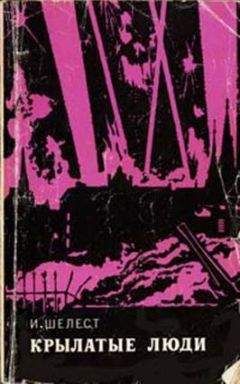Александр Ежов - Преодолей себя
— А моего сынка не видал там, в лагерях-то? — спрашивала его пожилая женщина. — Может, встречал?
— Нет, не встречал,— отмахивался Гешка. — Народу там — что те муравьев в муравейнике. А сколько перемерло, бедных, с голодухи-то! Вот про Федора Усачева кой-какие весточки есть. Передайте Насте — пусть придет. Вам ничего не скажу, а ей все как на духу выложу.
Настя пришла вечером. Кто-то сказал, что Федор жив, что будто Гешка видел его в немецких лагерях. И другой слух прошел, что погиб он в первом же бою, где-то в белорусских болотах. Настя не знала, кому и верить. К Блиновым боялась идти.
И вот пришла, села на лавочку, глядела печально на Гешку, словно на спасителя, ждала, что он скажет. А солдат молчал, поглядывал на Настю, на жену, на стены, на потолок, точно привыкал к новой для него обстановке и не мог привыкнуть. Настя пригляделась к нему и заметила: приобкатала война Гешку, хоть и храбрится он, а не тот мужичок. Лицо серое, и морщинки под глазами, и шея, как у петуха, вытянулась, еле голову держит. На Гешке была гимнастерка немецкого покроя и линялые галифе, правая штанина подогнута и заправлена за пояс. Левая нога, обутая в старый валенок, неестественно подрагивала, казалось, безногий солдат вот-вот поднимется со скамейки. Но Гешка сидел и криво улыбался, глядя на Настю,— видать, надоели ему частые гости: пристают с расспросами, жалеют, а к чему она ему, эта людская жалость? Совсем ни к чему. Пришел живой — и то ладно.
— Ну что, Настя? — спросил Гешка, — Не признаешь?
— Как же, признаю,— спокойно проговорила она и все смотрела на него: словно бы не деревенский он, а пришел откуда-то из дальних краев, постучался в дверь к Марии, впустила она его и приняла
— Где мыкался? — спросила она. Хотела спросить, где муж Федор, но не спросила, ждала, когда сам об этом поведает.
— Где был — там уж нет меня,— уклончиво ответил Гешка,— Там ветер гуляет.
Он судорожно сжал пятерней пустую штанину, скомкал ее, и Настя теперь поняла, что нога у него отнята высоко, и жалость к Гешке начала шевелиться в ней, все нарастая и нарастая.
— Как же теперь без ноги-то? — спросила она и смахнула слезу, а сама подумала: «Вот Федор, пускай бы и без ноги, но живым вернулся, с радостью приняла бы. Только бы пришел, только бы живым был...»
Гешка насупился, очевидно, не понравился ему такой вопрос, да и сама она уже спохватилась: зачем так спросила?
— Хорошо, что живой,— вступила в разговор Мария. — Люди головы сложили или мучаются там, в фашистских лагерях. А Геннадий, слава богу, пришел…
— Заладила одно и то же — живой да пришел... Гешка схватился за культю, вскрикнул, будто бы боли, уставился вопросительно на жену: — Раз живой, достань самогончику. Горлышко размочить не мешает, прежде чем разговоры вести. Вот с Настеной-то, с ней. Не скаредничай, доставай!
— С утра угостился — и хватит! — отмахнулась Мария.— Что у меня, питейное заведение аль ресторан какой? Иль шинкарка я?
— Шинкарка не шинкарка, а жена. Муж из дальней дали прикостылял, значит, угости как следоват! Иначе разговор не пойдет. Трезвому страшно правду говорить. А выпью — все легче.
Настя затихла, притаилась, вся в ожидании. А Гешка тянул и тянул, будто бы воды в рот набрал, ждал, когда Мария принесет выпивку. И она медлила, не несла.
— Ну, что молчишь-то, рассказывай! — крикнула на него жена. — Не томи. Ведь за делом пришла Настена-то, про мужа хочет узнать.
— Бутылку поставь, тогда и разговор пойдет
— Ладно, бог с тобой,— махнула рукой Мария.— Сейчас принесу. Только не томи Настю. Изболелась душа, поди, у нее в ожидании-то...
— Рассказ невеселый будет. Смочить его надо, этот рассказ.
Настя смотрела на Геннадия и ждала с замиранием сердца, что он скажет. А он медлил, словно бы изматывал ее ожиданием. Наконец срывающимся голосом она спросила:
— Ну, что с ним, с Федором-то моим? Что? Говори!
— Сейчас расскажу все по порядку. Вот только горлышко смочу малость, пересохло оно...
Мария подала бутылку мутноватой жидкости. Выдернув бумажную пробку, Геннадий налил в стакан, залпом выпил. Потом взял огурец и начал хрустко жевать. Жевал долго, кряхтел и мотал головой. И когда съел, пучеглазо уставился на Настю, начал свой невеселый рассказ:
— Да, попали мы, значит, с Федором-то в один полк и в одну роту. Сначала в резерве были. С месяц, не больше. А потом бросили на передовую нас, значит, на Западный фронт. Сразу, с ходу, и в бой. Немец-то дюже напирал, тогда в силах он был, в сорок первом году. А мы оборону держали. Держали на одном месте, на другом. И сдержать не могли: силенок не хватало и техники...
Он говорил не торопясь. Подробно рассказывал, где, когда и какой шел бой. Где отступали, где в окружение попали, как вырывались из этого окружения. Говорил с полчаса, и Настя томилась, жадно слушала, ожидая, что скажет о судьбе Федора. Но Гешка снова пускался в рассуждения о том, как тяжело было войскам в сорок первом году, как пропадали люди, погибая от пуль или попадая в плен.
— А Федор-то, что с ним? — опять спросила она и вся затаилась.
— Федор? — Он уставился на нее выпуклыми, мутноватыми от выпитого самогона глазами, сказал: — Был твой Федор, да весь скукосился. Сам видел.
У нее перехватило дыхание, в первое мгновение она чуть не задохнулась, не могла выговорить ни слова, молчала и тупо глядела на Гешку. Он тоже смотрел на нее и тоже молчал, словно ждал, когда она заплачет, но она не плакала, побелела вся: испуг не отпускал ее долго, хотя она и не совсем поверила в то, о чем сообщил ей Гешка.
— Нет! Нет! Не верю! — наконец прокричала она, — Не верю я в это! Не верю!
Гешка глядел на нее немигающими серыми глазками и думал: почему ж она не поверила ему, фронтовику, прошедшему через кромешный ад? Со злорадством глядел на свою жертву, как бы говоря всем своим видом: «Федора нет твоего, а я вот живой, хоть и без ноги, а вот пришел, прикостылял и самогон пью, и жена меня ночью уложит спать в теплую и мягкую постель, и завтра утром проснется и снова опохмелится. Три дня подряд. Вот так, красоточка Настя, не пошла за муж за меня, за Гешку Блинова... Пошла за Федора, а его, Федора-то, и нет. Лежит в земле сырой и никогда не вернется...»
Настя уронила голову и беззвучно заплакала. Спина Насти вздрагивала, а пальцы рук, положенные на стол, судорожно сжимались и разжимались, словно ловили что-то и не могли поймать. Гешка молчал, и жена его, Мария, молчала, и стены в доме зловеще молчали
Настя должна была выплакаться, вылить из себя всю горечь, чтоб стало легче. Когда, наконец, подняла голову и с мольбой посмотрела на Гешку, словно прося у него других слов, не таких беспощадных и страшных, а более мягких, утешительных, в которых была бы надежда, хоть маленькая, но была б. Ведь может, он и живой, Федор-то? Не убит? Может, мыкается в плену или в другом каком месте? Она очень хотела, чтоб именно так оно и было, хотя знала, что на фронте гибнут тысячи, миллионы людей, что вероятность остаться живым невелика. У нее была надежда. И чтобы увериться в этой надежде, спросила: