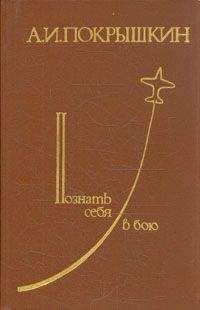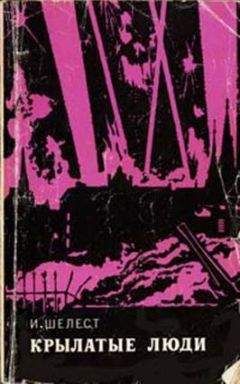Александр Ежов - Преодолей себя
— Где пропадал?
— У Насти был.
— У Насти?
— Родила Настя.
Теща всплеснула руками, наскоро перекрестилась и плавно опустилась на табурет.
— Господи боже мой! Как же так?
— А вот так, матушка. При живом-то муже. Опорожнилась.
Старуха поднялась с табурета, суетливо начала перебирать посуду, обтирала глиняные кринки тряпицей. Федор заметил — волнуется.
— Ну, как теперь жить будем? — спросил он. — Принесла ребенка...
— Родила — и бог с ней,— не сразу ответила Спиридоновна и перекрестилась снова.— Видать, так богу угодно.
Федор тупо глядел на тещу, потом спросил:
— От Сапрыкина дите? Видел его, негодяя. Сказал — бери, расти...
Спиридоновна с недоумением глядела на зятя, думала, не помешался ли.
— Что мелешь-то зря? От кого родила — одному богу известно. Спроси у ней — от кого. А ты, знамо дело, какой отец? Безрукий-то? — Старуха заплакала.
Федор видел, как мелко и знобяще вздрагивают ее плечи, как судорожно она сжимает пальцами край передника. «Переживает,— подумал,— за дочку переживает, а я, видать, лишний, почти чужой. Свалился горьким комом, нежданный, негаданный». Он глядел на Спиридоновну, и ему было нисколько не жаль старуху. Потом встал, широко расставил ноги, потребовал:
— Вот что, мамаша! Пальто достань драповое, хватит в шинельке ходить. Оденусь — пойду...
Спиридоновна подняла голову, перестала плакать. Смотрела на зятя испуганными глазами, часто и подслеповато мигала.
— Какое пальто?
— Мое. Довоенное. То, что в Ленинграде купил.
— Нет того пальто. Проели с Настенькой. Променяли на хлеб.
— Как — променяли?
— А так. Думали, нет тя в живых.
Федор рванулся к шкафу и снова потребовал:
— Открой! Сам посмотрю.
— На, на, гляди... — Она открыла дверцу шкафа.— Смотри, проверяй.
Федор увидел на вешалках Настины платья, кофточки и другие вещи. Пальто не нашел. Теща открыла нижние ящики, начала рыться в белье. Федор сидел на корточках, смотрел. Пахло тряпичной затхлостью, кожей и еще какими-то еле уловимыми запахами подержанных вещей. Руки тещи судорожно перебирали то одну, то другую тряпку. Она вытряхнула на пол старые наволочки, полотенца, чулки, носовые платки, перчатки. Наконец, обнаружила мятую Федорову рубашку.
— На, бери! — бросила на плечи зятя.
Рубашка шелковая, голубая, та, которую надевал в день свадьбы. Федор попытался свернуть и уложить ее на коленях.
Теща фыркнула:
— Подобрать даже не можешь! — и подхватила шелк, подошла к столу, завернула в обрезок газеты и подала Федору.
Он прижал сверток и вдруг понял, что он тут лишний, совсем чужой и никому не нужный в этом доме. У порога спросил:
— А Вера где?
— Это сестрица-то? Ушла на станцию еще утром. Торопилась к поезду.
Пришел к Блинову. Не хотел идти к нему, совсем не хотел, а вот пришел. Гешка сидел на табурете и подшивал старые валенки.
— Садись, друг, садись,— пригласил Федора.— Что невеселый такой?
— Дела неважнецкие. — Федору нужна была чья-либо поддержка, хотя бы друга-фронтовика. А какой друг Гешка? Собутыльник, пьяница. Не по пути ему с ним.
— Может, тяпнем по махонькой? — предложил Гешка и весело крикнул: — Марья!
— Нет, пить не буду,— отказался сразу Федор. — Горе самогоном не зальешь.
— А что у тя за горе?
— Жена родила. Настя.
— Ой-хо-хо! — Гешка закатил глаза, озорно засвистел.— Вот это новость! Подарочек, значит, преподнесла. Я же говорил тебе, что принесет. Ну, и что думаешь делать?
— Уеду, чтоб с глаз долой.
— Куда поедешь? Куда?
— А хоть куда. Нельзя оставаться здесь. Сапрыкин — отец ребенка.
— Сапрыкин? — Гешка скрипнул зубами. — А может, не он? Кто другой, может?
— Он. Видел его там, в Ивановском, разговаривал.
— Ну и что?
— А то, что прохвост он препорядочный. Гад!
— И все-таки, может, другой кто у ней, у Насти-то? В партизанах была. Разведчицей. Может, понапрасну на Сапрыкина грех накладываешь? У самой спроси.
— И спросил бы, да к ней не пускают. А вообще, что толку теперь спрашивать? Не все ли равно от кого?..
— Давай выпьем с горя-то. Все полегчает.
— Нет, не буду,— опять отказался Федор. — Водка — она что? Человека калечит. Сопьешься — пропал.
— Самогончик тяну — не пропадаю. И совесть свою всю еще не пропил. Всегда чуток про запас берегу. Без совести, брат, нельзя. Она без зубов, совесть-то, а все одно загрызет...
— Это хорошо, что в тебе, Геша, совесть ласточкой приютилась, гнездышко маленькое свила. Значит, человек в тебе не пропал. — Федор строго поглядел на Гешку. — Чтоб не грызла совесть, пить брось. Самогонка, она и остатки совести слопает, а то и всего съест.
— Брось ты, брось! Без водки нельзя. Горюшко свое инвалидное чем зальешь? Вином, больше нечем. Выпьешь — оно и легче. Словно те после исповеди — все грехи напрочь.
— Не прав ты, Геннадий! Водка погубит.
— А что делать? Инвалид — нога болит. Куда денешься? Вот и плывешь по волнам — нынче здесь, завтра там... Не знаешь, куда и занесет, к какому берегу прибьет. А вот ты со своими культяпками что будешь делать?
— Учиться буду. С азов начну, а добьюсь своего. Мы с тобой не пропащие, Геша. Войну прошли, да еще какую войну! Победители мы с тобой — вот кто! Гордись! На обочину не сворачивай. А если и толкнет кто — не сдавайся. Иди прямой дорогой. Прямо к цели.
— Ишь ты какой идейный! — замахал руками Гешка. — А если я по-своему жить
хочу? И не мешай мне, не агитируй. Жисть — она корявая штуковина, суковастая. И по головке погладит, и на лопатки положит. Кто сильней да похитрей — тот и выиграл. А? Вот, к примеру, твое, Федя, дело. Жену от тебя отбили. Борись не борись, а сильным оказался не ты — другой посильней тебя.
— Это еще посмотрим!
— И смотреть нечего. Я бы ему морду набил, этому Сапрыкину, по число по первое. И ушел бы... — У Гешки заиграли скулы. — Но ты даже этого сделать не можешь: без рук ты, и он, этот Костя, сильней тебя.
Горько было слушать Федору Гешкины слова. Хоть и возражал ему, кипятился, а правда была безутешной. Ему хотелось непременно повидаться с Настей, объясниться раз и навсегда, чтоб разрубить этот туго затянутый узел, прояснить все до конца. И он решил опять пойти в Ивановское, в больницу, добиваться свидания.
Отправился в путь на другой день. Погода была пасмурной. Шел по скользкой дороге и думал, что увидит Настю, поговорит — и все уляжется, все встанет на свои места. Ему казалось, что он любит ее настолько сильно, настолько властно завладела им эта роковая любовь,— он просто не может жить без нее, без Насти. Он готов был простить ей все — измену и позор, только бы она сказала ему, что по-прежнему любит его, Федора.