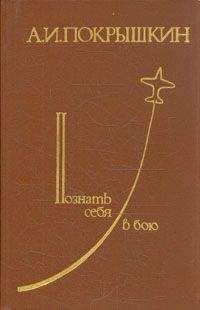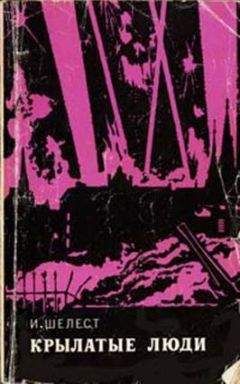Александр Ежов - Преодолей себя
Шел Федор, и волнение распирало его, и чем ближе была родная деревня, тем все больше и больше пугала подспудная робость. Он боялся встречи с женой.
Деревня показалась за поворотом дороги, тихая, погруженная в глубокий сон. Федор остановился в нерешительности, сердце сильно и гулко колотилось.
— Пришли, — произнес он еле слышно и стал рассматривать берег речки, дома вдоль нее, за домами скотные дворы и сараи для сена.
Все было прежним и неизменным на первый взгляд, но это только казалось. На самом деле Большой Городец пострадал от нашествия. И когда он всмотрелся повнимательней, то разглядел проплешины и пустоты: дома изрядно поредели. Тещин дом был цел, и Федор быстрей зашагал, Вера спешила за ним. Подойдя поближе, заметил, что крыльцо кем-то подновлено — заменены доски настила, они были гладко выструганы и сверкали в лунном свете белизной. Дрогнуло сердце. Чья-то мужская рука здесь хозяйствовала. А что, если Настя приняла в дом другого? Потому и на письма, видать, не ответила. Эта мысль снова обожгла его, и он застучал носком сапога в дверь. Никто не выходил. Постучал еще раз, потом еще. Все замерло в эти мгновения. Каждая секунда казалась вечностью. Федор почти не дышал. Наконец, скрипнула дверь, скрипнула где-то наверху, и в сенях послышались шаги. Потом звонкий, до боли знакомый Федору голос спросил:
— Кто там?
— Открывай... Это я, Федор. — У него в горле застряли слова, и больше ничего не мог сказать. Голова кружилась, словно бы опьянел.
— Кто? — Настя, вероятно, не узнала его голоса и не открыла сразу.
— Я, Федор! — выкрикнул он неестественно громко и почувствовал, как кровь хлынула к голове, запульсировала в висках.
В сенях стояла тишина. Она все еще не решалась открыть, хотя чувствовала, что за дверью он, муж Федор Ноги подкашивались — так сильно волновалась. Овладев собой, спросила робко:
— Федя, ты? — хотя теперь уже знала наверняка, что это был он.
— Я. Открывай! Не узнала, что ль? — властно, хозяйским голосом потребовал Федор.
Щеколда стукнула, и дверь отворилась. Настя, высокая, красивая, стояла перед ним — как изваяние, как какое-то видение, словно царевна из сказки. В темноте он не заметил лихорадочного блеска ее глаз и той тревожной растерянности, которые отражались на ее лице, лишь услышал тяжелый выдох. Она подалась к нему, положила руки на плечи, запричитала:
— Федя, Феденька!.. Живой!
У него комок отступил от горла, в груди потеплело. Попытался обнять ее за шею, но она вдруг отпрянула.
— Что с тобой сделали, Федя? — Она подалась назад в испуге, увидев, что на левую руку мужа был надет черный чулочек, а правая обнажена. Настя заметила, что и правая рука обезображена. — Федя, ужель...— Она замолчала, ожидая, что он скажет.
— Я же писал, что руки покалечены. Почему не ответила?
Она стояла растерянная, молчала. Потом сказала:
— Не знала я, Федя, не знала...
— Как же так, а письма? Почему не ответила на письма?
— Не получала я от тебя писем.
В горле опять у него заломило, словно накинули на шею петлю. Сами собой вырвались горькие слова:
— Может, не нужен тебе? В обузу, калеченный?
Она молчала. Боялась сказать, что виновата перед ним. Как скажешь об этом?
Вошли в дом. Тут все было так же, как и до войны. Федор осматривал стены, потолок, печку, незатейливую мебель. Казалось, не три с лишним года назад, а лишь вчера покинул он этот дом, такой по-русски уютный, где всегда было тепло, пахло ржаным тестом, кислой капустой, солеными огурцами и еще какими-то еле уловимыми запахами кухонных приготовлений. Присев на скамейку, он как-то сразу обмяк. Дом бы не его дом, тещин дом, перед самой войной перешел сюда, а родительский продал.
Несколько минут все сидели молча за большим кухонным столом, накрытым зеленой клеенкой. Он вспомнил, что клеенку купил за полгода до войны, и вот она еще жива, но уже изрядно поизносилась — в нескольких местах была протерта насквозь. На подоконниках стояла герань, она пахла терпким ароматом и распустила два розовых цветка, тут же распушил еловидные лапки другой цветок. Как называется он, Федор не помнил; он любил цветы, когда-то для них набирал землю из-под опавших перепревших липовых листьев или в парниках и в болотистых торфянистых лугах. Федор знал в этом толк: пробовал землю на ощупь, разминал ее пальцами — покойница мать всегда была довольна сыном.
— Землю-то не меняли в цветочных горшочках? — спросил он, нарушив тягостное молчание.
— Нет. А что? — встрепенулась Настя и посмотрела на подоконник.
— Я просто так спросил, — ответил Федор, а сам хотел сказать, что земля в горшках истощала, что надо ее заменить.
Вошла мать Насти, Екатерина Спиридоновна. Увидев зятя, стушевалась, тоже, по-видимому, ждала.
— Никак Федя?! Господи! Думали, и в живых-то нет, а вот на тебе, воскрес...
Федор приметил, как она подозрительно взглянула на Веру.
Теща спросила:
— Кажись, с кралей пожаловал? И где такую красотку подцепил, в каких краях?
Федор грубо оборвал:
— Какая там краля! Сестра милосердия. Из госпиталя. Привезла меня.
— Привезла. Ах, господи! — запричитала Спиридоновна — А я-то подумала... Прости, зятек. Извини.
— Издали они приехали. Из большой дали,— начала пояснять Настя. — Ведь Федор без руки теперь.
Спиридоновна заохала:
— Изувечили бедного... Господи! Как жить-то теперича? Ой-оюшки!
— Ладно, мать, ладно. Не надрывай душу! — Настя поднялась, и Федор заметил, что она погрузнела, раздалась в ширину. Платье носит широкое, и походка грузная, степенная. А в глазах все еще испуг. Чего она испугалась? Его, Федора, боится? Или еще чего?
А Спиридоновна не унималась:
— Ждала тебя Настасья-то. Ждала. Неровен час и замуж бы выскочила...
— При живом-то муже? И замуж? Этого еще не хватало!— У Федора на щеках
заиграли желваки, и дышать стало тяжело. Он пытался унять в себе волнение и не мог.
— Все думали, что тебя и в живых-то нет. Пропал...
— Почему пропал? Почему так думали? Похоронку, что ль, получили?
— Нет. Похоронки не было, — спокойно ответила Настя. — Блинов Геша вести страшные привез. Сказал, что погиб...
— Так, значит, Гешка. Ах, вон оно что! Теперь понятно. А я всем смертям назло жив остался. Живой! Видите, живой!
— Видим, видим, зятек. Живой-то живой, да... — теща не договорила и с жалостью смотрела на Федора, чуть ли не плакала. — Без рук-то как? Ни дров расколоть, ни огород вскопать... Как жить-то?
Федору было горько слушать причитания тещи. Он не хотел, чтобы его жалели. Не хотел! Жалость и сострадание со стороны других вызывали чувство внутреннего протеста, даже неприязни к тем людям, которые его жалели. В голове кружилось и вихрилось: «Зачем приехал? Зачем? Были б дети — другое дело. Настя молодая, красивая, найдет другого, по себе. А я теперь для чего тут? Для чего? Исковеркаю чужое счастье, изломаю». Да он и не поехал бы, если бы не любил Настю. Всегда страдал, еще там, в госпиталях, когда думал о том, что Настя ласкает другого, стирает для другого белье, готовит обед другому... Ему горько было думать об этом, но иногда так размышлял он, и видимо, не без причины.