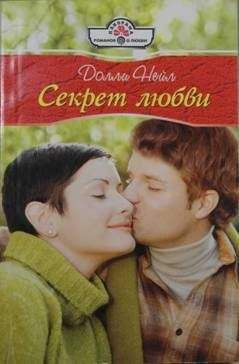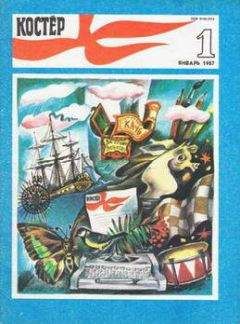Джоконда Белли - Воскрешение королевы
Еще днем на свете не было женщины счастливее, а вечером на меня рухнуло небо. Эрцгерцог холодно поздоровался со мной, воровато отводя глаза. За эти дни он сильно осунулся. От нежности, с которой мы прощались, не осталось и следа: по-прежнему не глядя на меня, Филипп приказал придворным оставить нас наедине. Хотя в комнате было жарко натоплено, я начала дрожать. Муж произнес длинную запутанную речь, прежде чем подобрался к главному: он возвращается во Фландрию один. Разочарование и гнев поднялись во мне, словно песчаная буря. Злые, необдуманные слова срывались с моих губ и ранили, точно отравленные стрелы. Это боль и обида говорили за меня. Так вот какова его плата за мою преданность? Ему ли судить, хватит ли у меня сил перенести дорогу? Откуда такая забота о моем здоровье и почему оно не тревожило его раньше, пока мы собирались в дорогу вместе? И если он столь высоко ценит мнение моих родителей, почему бы не дождаться рождения ребенка в Испании? Ведь осталось всего два месяца. Одному Господу известно, сколько продлится наша разлука. Разве я торопила его, когда он целый год, месяц за месяцем, откладывал наш визит? Что за нужда бросать меня одну, вдали от него и от детей, во власти моих родителей? Разве он не понимает, как сильно я соскучилась по нашим крошкам? А что, если я умру в родах?
Я металась по комнате и говорила, не в силах остановиться. За вопросами без ответа последовали оскорбления, не достигшие цели. Я обзывала мужа неудачником, слабаком, болваном, не рожденным царствовать. Чего стоили его жалкие Нидерланды по сравнению с великой Испанией? Или он всего лишь чванливое ничтожество, неспособное возвыситься над собой, чтобы принять немыслимо щедрый подарок судьбы?
Филипп неподвижно сидел в кресле и молча смотрел на огонь. Его молчание только пуще разжигало мою бессильную ярость. Мне хотелось разбить голову о стену, наброситься на мужа, разорвать его в клочья. Я даже помыслить не могла о том, чтобы остаться в Испании без него. Страх и ярость поднимались во мне, как озерная вода по весне, грозя выйти из берегов. Я не сомневалась, что, получив надо мной полную власть, родители немедленно посадят меня на цепь, как галерного раба. Тогда у меня будет меньше свободы, чем у последней невольницы. Охваченная ужасом, сломленная, я бросилась на колени перед Филиппом, заклиная его переменить решение.
Оскорбления не тронули эрцгерцога, но, увидев мое унижение, он пришел в ярость. Филипп отпихнул меня, крича, что ненавидит все, что со мной связано, ненавидит мою темную нищую страну фанатичных священников и лживых, развратных дворян, страну невежд и убийц. Как мне только пришло в голову соблазнять его троном узурпаторов, стоящим на крови и обмане, освященным блудливыми папами? Неужели я не вижу, что все вокруг ненавидят его? Еще ни один королевский двор не знал столько интриг, столько злобы и предательства. Не двор, а логово разбойников, которые уже умертвили его лучшего друга и его самого умертвили бы, если бы смогли. Мой отец не остановится ни перед чем. Одна лишь я не желаю признавать очевидное.
Нет, Филипп ни за что не останется в Испании, быть жертвенным агнцем он не желает. Особенно теперь, когда у него не осталось верных друзей и защитников. Неужели слезы застили мне глаза и я не вижу, что отец готов принести в жертву нас обоих.
Мой Филипп отнюдь не был глупцом. Потом я часто вспоминала его слова, но в тот момент они показались мне чудовищно несправедливыми. Я валялась на полу, зажав руками уши, и кричала, чтобы он убирался, что я больше не желаю его видеть, что он может отправляться на охоту или пьянствовать со своими французишками, которые годятся лишь на то, чтобы подпирать стены во дворцах да танцевать павану[18]. Таким вышло мое прощание с любимым. Филипп уехал, а я осталась в Кастилии, поверженная, жалкая пища стервятников.
ГЛАВА 13
— Ешь шоколад, Лусия.
Филипп направлялся во Францию, беременная Хуана осталась под присмотром матери, семнадцатый век со всеми его бедами превратился в главу из учебника истории, а мы с Мануэлем сделали перерыв на обед. Агеда подала нам лазанью в серебряной кастрюле. На десерт были бисквиты и шоколад из красивой позолоченной коробки.
Только теперь я заметила, как похожи тетя и племянник: те же светлые глаза, изогнутые ресницы, изящные маленькие носы, полные губы. Обоих окружала аура подлинного величия, связанная не с происхождением, а, скорее, с глубоким равнодушием к повседневной суете. Правда, Агеду немного портили чересчур массивный браслет и ядовито-розовые тона макияжа.
— Мануэль так на вас похож, — заметила я.
— Мы с сестрой были близнецами.
— Правда? — удивилась я.
— Только моя мать в нашей семье паршивая овца. Она была сумасшедшей… И отнюдь не в том смысле, который имела в виду святая Тереса, когда говорила о природе творчества.
— Но Аврора действительно была творческой личностью. Мы мало походили друг на друга. Я прагматик. А она была фантазеркой с богемными замашками. Твоя мать не была сумасшедшей, Мануэль, просто ей капельку не хватало здравого смысла. Аврора родилась не в свое время и почему-то верила, что отец ее поймет. Но она ошибалась. В этом никто никогда не ставил под сомнение авторитет главы семьи. Мы с мамой ничем не могли ей помочь. Вы даже не представляете, что за человек был мой отец. — Агеда погрузилась в воспоминания, рассеянно помешивая кофе.
— Черт возьми, тетя, в Испании полиция до сих пор охотится за парочками, которые целуются в общественных местах, — возмутился Мануэль, — и это в шестидесятые. Со времен твоей юности мало что изменилось.
— Изменилось, уж поверь мне, — парировала Агеда, возвращаясь к действительности. — Весь мир раскрепощается. Посмотри новости: в Вашингтоне молодые девицы жгут свои лифчики. Молодежь знает, что время на ее стороне. Вы ничего не боитесь, не знаете предрассудков, которые портили жизнь нам.
— Значит, мама Мануэля очень рано вышла замуж? — спросила я.
— Она вообще не выходила замуж, — отозвался Мануэль, ломая булку. — Я родился вне брака. Мой отец был ее учителем, он предпочел удрать подобру-поздорову, чтобы не иметь дела с потенциальным тестем. Так что бабка с дедом смогли расправиться только с моей матерью. Они выгнали ее из дома, отняли у нее все. Даже меня.
— Твой отец к тому времени успел смотать удочки. А ты был таким маленьким, таким беззащитным. Аврора так и не вернулась. И Мануэля вырастила я, — произнесла Агеда, глядя на племянника с материнской улыбкой.
— А потом сдала в интернат…
— Ты же знаешь, Мануэль, мне хотелось, чтобы ты проводил поменьше времени с бабкой и дедом.