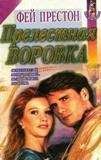Барбара Эвинг - Гипнотизер
Корделия Престон наконец сказала детям, что дознание еще не завершено, поэтому она должна уделить внимание одному важному делу. Она поспешно покинула дом (ее лицо было закрыто вуалью), пробираясь через толпу. Вместе с месье Роландом она села в закрытый экипаж, по которому барабанил дождь, и отправилась на встречу с инспектором Риверсом. Они назначили ее подальше от толпы людей, подальше от дома, окруженного торговцами пирожками и имбирным пивом, — в пустых комнатах в Кеннингтоне, где любимая тетушка Корделии и возлюбленная месье Роланда, мисс Хестер Престон, много лет назад впервые услышала о гипнотизме.
Инспектор Риверс, хотя и проявляя терпение (его отношение к мисс Престон несколько изменилось — он не мог не признать этого), настоял на том, чтобы она рассказала о событиях той ночи. И она поведала им то, что было известно только Рилли Спунс (ведь именно Рилли, страшно волнуясь, ждала ее в доме на Бедфорд-плейс, пока Корделия не явилась глубоко за полночь). Корделия наконец рассказала о том, что на самом деле произошло в тот вечер, когда лорд Морган Эллис пришел в ее дом, а зимняя луна светила над площадью Блумсбери.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Когда лорд Морган Эллис в тот вечер увидел Корделию у незашторенных окон, он не мог вымолвить ни слова. Минуту они стояли, не нарушая тишины. Перед ними пронеслись картины прошлого: разрушенный каменный замок среди полевых цветов у обманчивого беспокойного моря. Все это чудесным образом перенеслось в комнаты в Блумсбери, но те дни ушли навсегда, оставив лишь память о потере.
А затем, когда с его уст сорвался сдавленный крик, будто что-то сломалось, и когда он все же нашел в себе силы говорить, его первыми словами были: «Моя любовь». Эти слова были сказаны не по велению холодного ума, а по велению сердца.
Но он словно и не произнес этого признания, или, возможно, она его не услышала. Она лишь смотрела на затянутого в корсет стареющего мужчину, который стоял в ее комнате. Его лицо, как она заметила еще на венчании Манон, утратило свежесть молодости: теперь оно было испещрено морщинами, а на щеках разливался красный румянец.
— Морган хочет рисовать, — проговорила она.
Он услышал ее низкий приятный голос, который очаровал его много лет назад, и замер в замешательстве. Потом ответил ей, сделав огромное усилие над собой:
— Морган однажды станет герцогом Ланнефидом, а не простым художником. Об этом даже не может быть и речи.
— Взгляни, Эллис, — сказала Корделия.
Он повернул голову. На стене теплой приятной комнаты, согретой огнем камина и насыщенной запахом хвои, висела загадочная картина. Она была без рамки. Эта картина живо разбудила его память. Вода в заливе отступила далеко-далеко, обнажив старую деревянную посудину с торчащей железной мачтой. На песке лежали ракушки самой причудливой формы, а скалы тяжело нависали над землей (те самые скрытые скалы, которые таили в себе столько опасностей для зазевавшихся моряков). Скалы были увиты засохшими водорослями, подобно змеям, спускавшимся до самого песчаного дна. На заднем плане, почти невидимая, стояла девочка, склонившись над маленьким мальчиком, который держал в руках рыбу. На переднем плане виднелась фигура еще одной девочки, которая что-то изучала, вглядываясь в песок. Возможно, ее внимание привлекла ракушка. Ветер подхватил ее юбки, которые разлетелись в стороны, и разметал светлые волосы. Было совершенно ясно, кто эта девочка: это была Манон. Свет на картине освещал линию горизонта. Разорванные в клочья тучи закрывали заходящее солнце. Картина была великолепной, но в ней чувствовалась какая-то загадка — что-то такое, что невозможно выразить словами.
— Но он не был там… много лет, — замирающим голосом проговорил лорд Эллис.
— Я знаю.
Лорд Морган Эллис не сводил с нее взгляда. Он был потрясен.
— Но как он может помнить все так ясно?
Когда Корделия не ответила, он снова произнес слова, которые ничего уже не могли изменить: «Моя любовь».
Мисс Корделия Престон рассмеялась. Но этот смех не звучал весело и беззаботно. В нем были горечь и боль, и он услышал что-то еще, возможно, она хотела выразить свое презрение.
— Не стоит произносить это слово в моем присутствии.
— Корди.
Она невольно поморщилась, когда он назвал ее этим именем
— Корди, послушай. Мой отец…
Он не мог справиться с волнением, но потом взял себя в руки.
— Я дам тебе дом. Я дам тебе деньги. Ты не должна жить в Блумсбери. Когда-то Блумсбери было хорошим местом, но не сейчас.
Корделия не могла поверить тому, что слышит. Она была потрясена его словами, но ее голос прозвучал все так же низко и сдержанно.
— Ты будешь говорить мне, где не надо жить?! Я родом из Блумсбери и вернулась сюда после моего краха. Я заново устроила свою жизнь и теперь живу в прекрасном доме, у меня есть собственное дело, и мы с Рилли сами зарабатываем себе на жизнь. Мы почти богаты, нас уважают. А все, что ты можешь мне сказать спустя десять лет после предательства, после чудовищной лжи, которой ты меня опутал, едва не лишив жизни, — только то, что я не должна жить в Блумсбери?
Она ощутила, что самообладание покидает ее, и остановилась. Потом заставила себя успокоиться и сказала:
— Ты не можешь не видеть, что у Моргана необыкновенный талант.
Она заметила, что его взгляд невольно постоянно обращается к картине прошлого.
— Если он хочет рисовать, то может жить со мной, с твоего разрешения, конечно. Кроме того, я надеюсь, что с помощью гипноза сумею облегчить ему головные боли. Это все, что я хотела сказать тебе, Эллис. А теперь уходи.
И она быстро покинула мужчину, который когда-то был смыслом ее жизни. Она исчезла в темном саду. Он видел, как она скользнула мимо статуи каменного ангела, как мелькнуло ее шелковое платье. К маленькой калитке из сада вела тропинка. Она быстро прошла по ней и вот уже торопилась по аллее к площади. Она была без накидки, без шали, ее волосы в беспорядке рассыпались по плечам. Она бежала туда, где всегда находила успокоение, — на площадь Блумсбери, в сад ее мечтаний.
Она не заметила фигуру, закутанную в темный плащ.
Холодная полная луна ярко светила в тот вечер, озаряя путь. Она не замечала холода и остановилась только у памятника Чарльзу Джеймсу Фоксу. Прислонилась к нему, а затем согнулась почти пополам, подумав: «Я слишком стара, чтобы так бегать», сердце у нее едва не выскакивало из груди. От бега, от воспоминаний, но больше оттого, что все эти годы она, как в темнице, держала в своем сердце гнев.