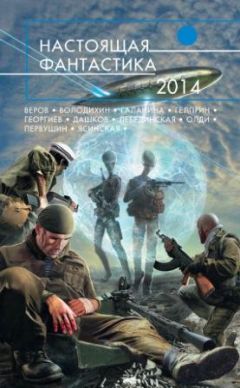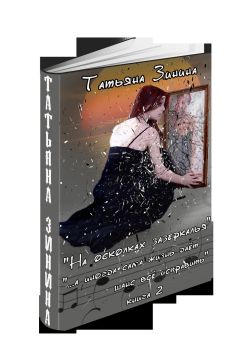На осколках разбитых надежд (СИ) - Струк Марина
Но он молчал. И Лена опустила голову, стала разглядывать половицы. Лишь бы не думать о том, что когда-то жила в этой самой комнате.
— Hast du Hunger? Nimmst du dich, was du möchtest. [8]
Лена вздрогнула от неожиданности, когда Ротбауэр заговорил спустя некоторое время. Он погасил окурок в стеклянной пепельнице, незнакомой для Лены вещице, а после прошел к патефону и опустил иглу на полотно пластинки.
Странно, подумалось Лене, патефон не работал до войны около года. Из-за дефицита игл. Лена купила иглы да забыла в Москве, когда вернулась Минск. Тетя обещала привезти в свой первый же визит в сентябре, но не сложилось из-за войны. Так и стоял патефон на шкафу, дожидаясь своего часа, а не под кроватью, как шутил когда-то Котя. А немец в разрушенном городе, где сложно было найти порой даже обувь или лекарства, достал эти злосчастные иглы. И теперь комнату наполнили звуки концерта Чайковского. Одна из любимейших пластинок мамы.
— Kennst diese Musik? — спросил Ротбауэр, покрутив в руках картонку от пластинки. Но взгляда от лица Лены не отрывал ни на секунду. Особенно, когда добавил без плавного перехода резко и зло: — Wenn du stiehlst, wirst du getötet. Und ich weiß, dass du stiehlst. [9]
Это прозвучало настолько неожиданно, что Лена на мгновение потеряла самообладание и взглянула на Ротбауэра. Но этого мгновения для внимательного немца было достаточно. Лена скрывала, что пусть и не всегда, но понимает речь оккупантов, на протяжении нескольких месяцев. И вот каким-то образом Ротбауэр узнал ее секрет.
— И я знаю прекрасно, что ты понимаешь меня. Твои бумаги подсказали мне, что экзамен на знание немецкого языка, ты сдала на «отлично». Можешь, и дальше притворяться перед Йенсом, если хочешь, — продолжил он на немецком языке.
— Мои бумаги? — собственный голос звучал для нее совсем чужим сейчас, когда она осмелилась впервые за месяцы, заговорить на этом ненавистном для нее языке.
О чем он говорит? В горле сдавило от страха. Неужели на нее уже завели еще одно досье, помимо того, что лежало в так называемом отделе кадров на фабрике? К чему весь этот разговор?
От волнения Лене стало казаться, что она понимает немца даже не через слово, а через предложения. Звучавший фоном концерт Чайковского впервые показался Лене каким-то зловещим, сбивающим с толку, играющим резкими звуками фортепьяно и скрипок на натянутых нервах.
— Твои бумаги в театре, — ответил еще раз Ротбауэр, но иначе, когда заметил, что Лена не поняла некоторых слов. — Ты же знаешь, наверное, что мое отделение занималось театром прошлым летом.
«Занималось театром». Лена не могла сохранить спокойствие на лице, когда он упомянул об этом. Театр оперы и балета, в котором она так и не успела выйти на сцену, сейчас выглядел поверженным колоссом — разрушенный бомбардировками, разграбленный, опустевший, он стоял среди пожарищ и руин немым напоминанием того, как изменилась жизнь Лены.
Она помнила этот летний день, о котором говорил Ротбауэр. Тогда из театра вынесли почти все, что так тщательно создавалось для этого храма Мельпомены: мебель, декорации, люстры, портьеры, костюмы и аппаратуру. Даже нотные листы вынесли. Лена помнила, как издали наблюдала погрузку театрального имущества, затерявшись среди любопытствующих минчан, собравшихся поглазеть очередной грабеж Минска захватчиками. Словно саранча немцы тащили все, на что падал их взгляд. Хватали то, что нравилось. Отбирали… грабили…
Лене пришлось закрыть на какие-то секунды глаза, чтобы не показать своей ненависти, вспыхнувшей при этом воспоминании. Она не видела сама, но говорили, что при этом грабеже даже убили пожилого работника сцены, который пытался защитить родной театр. Он так и не узнал, что немцы сделали из театра конюшни и склады. Зато Лена знала. И ненавидела втройне немцев за то, что они разрушили и эту ее мечту.
— Любопытно было, почему ты скрываешь это, — продолжил тем временем Ротбауэр, глядя на нее цепким взглядом. — Я даже думал, что ты специально приставлена ко мне коммунистами. Поглядывать, подслушивать, вынюхивать… как они любят.
Лена с силой сжала незаметно для немца ладонь в кулак, чтобы ногти больно впились в кожу. Физическая боль заставила ее на мгновение выкинуть из головы слова Ротбауэра, а музыка заворожила своими звуками и унесла с собой в воображаемый мир на какие-то минуты, возвращая тем самым едва не потерянное самообладание.
Он ничего не сказал толком. Это всего лишь подозрения. И она действительно не виновата в том, о чем он говорит сейчас. Якова пока не интересовал жилец, занявший место в их общей квартире. Несмотря на то, что Ротбауэр был заместителем руководителя минского отделения Оперативного штаба АРР [10] и был очень близок верхушке генерального комиссариата и частенько бывал в доме Кубе, Яков никогда не спрашивал при встречах о нем. А это значило, что немцу нечего предъявить ей сейчас.
— Йенс! — вдруг крикнул Ротбауэр, призывая денщика, и у Лены все оборвалось внутри. Вот сейчас вместе с денщиком в комнату войдут полицейские, и ее отведут в гестапо. Довольно ли ей будет сил не сдать Якова или того худенького белобрысого мальчика, которого тот посылал вместо себя иногда? Выдержит ли она? А после ее повесят на одном из фонарных столбов Минска, как тех других несчастных…
На мгновение захотелось отбросить гордость и умолять немца, убедить, что она совсем ни в чем не виновата. Усилием воли Лена подавила в себе это желание и стала смотреть на патефон, где под иглой ходила блестящая пластинка. В голове тут же возникло воспоминание о Косте.
Котя, милый-милый Котя… Она так боялась позабыть его лицо, что затерла по уголкам карточку. Котя…
— Йенс, собери картофель, половину курицы и пироги и отнеси все это к фрау… к фрау…
Ротбауэр запнулся, и Лена едва сдержала усмешку, заметив его мимолетное замешательство. За месяцы, которые он прожил здесь, немец даже не удосужился запомнить их имена. Кроме ее, Лениного, тут же мелькнуло в голове. Понимание этого заставило ее тут же нахмуриться. Все-таки что ему нужно? Что за подкуп едой? Чего он хочет добиться?
Словно прочитав ее мысли, Ротбауэр улыбнулся холодно после того, как Йенс удалился, унося с собой тарелки, полные еды.
— Я запрещаю что-либо забирать из моих комнат. Отныне, если я замечу пропажу чего-либо, я накажу за воровство. Но не тебя. Твою мать. Ты поняла меня?
Лену при этих словах бросило в жар. Не только от страха, что он заметил, как она порой берет вещи на продажу на рынке, чтобы купить еды или лекарства матери. Она не видела в этом ничего плохого — все это принадлежало им, Дементьевым, несмотря на то что теперь их комнаты занимал Ротбауэр. Ее задело до глубины души, что он считал это все своим. Мебель, посуду, белье, книги, патефон и многое другое.
И ее. Ее он тоже считал своей собственностью. Именно эта мысль промелькнула в голове, и Лена, страшась ее, скрыла надежно ее в самых задворках своего разума. Лена боялась интереса со стороны немцев, наслушавшись во время работы в цехе рассказов о насилии, которое, несмотря на запрет со стороны немецкого командования, все же случалось с девушками. Причем, в основном это насилие творили не солдаты, а именно офицеры.
— Ты поняла меня? — повторил гауптштурмфюрер по слогам, явно заподозрив, что Лена могла не разобрать что-то из его слов. В его голосе прозвучало раздражение, и она поспешила подтвердить, что поняла его.
Ротбауэр кивнул довольно, а потом поменял пластинку на патефоне, прервав звуки классической мелодии. Теперь из патефона замурлыкал женский голос, поющий что-то о любви и разлуке на немецком языке — Лена плохо разбирала на слух текст песни.
— Это отнюдь не знак милосердия. Пусть твоя комсомольская совесть будет спокойна, — иронично произнес Ротбауэр, расстегивая ворот мундира. — Ты ведь комсомолка, Лена?