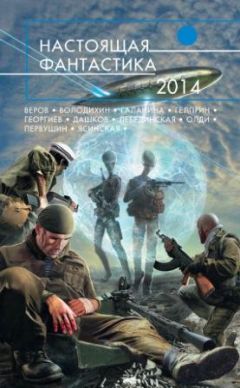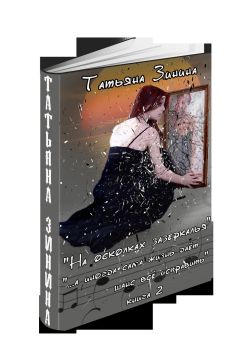На осколках разбитых надежд (СИ) - Струк Марина
С каждой прожитой неделей уверенность в том, что немцы ошибались, и вот-вот в город вернется советская армия, таяла. Зато росли сомнения в завтрашнем дне, страх перед оккупантами, чувство собственного бессилия и понимание, что им с матерью ни за что не пережить следующую зиму.
Почему именно сейчас Ротбауэр признался, что знает ее маленький секрет? Было ли это действительно совпадением обстоятельств? Или за этим кроется что-то иное, о чем даже думать было страшно?
Лена вдруг вспомнила, как один-единственный раз видела Ротбауэра пьяным. Он вернулся как-то раз с ужина у гауляйтера Кубе поздно ночью в конце января. Лена в ту ночь не спала — Татьяну Георгиевну скрутил приступ, и она промучилась весь вечер и часть ночи. Лена вздохнула с облегчением, когда боль немного отступила под воздействием тепла грелки, и мать уснула. Она только собралась выйти в уборную, как услышала стук входной двери, шум в коридоре и голоса Ротбауэра и Йенса. Только когда все снова стихло спустя некоторое время, Лена преодолела боязнь и вышла в темный коридор, чтобы быстрыми шажками добежать до места.
Видимо, ее выдал стук двери или звук смываемой воды, но когда она вышла в темный коридор позднее из ванной комнаты, то едва сдержала вскрик ужаса, почувствовав сильную хватку на своих локтях. Шаль с ее плеч упала к ногам при резком движении Ротбауэра, которым он буквально припечатал к стене коридора. От него противно пахло алкоголем и табаком, но Лена понимала, что нельзя ничем выказывать своего отвращения. Опустила взгляд в пол, зная уже по опыту, что ни в коем случае нельзя смотреть в глаза.
— Разве тебя мать не учила, как опасно ходить в одной сорочке в квартире, где соседями два взрослых мужика? — произнес Ротбауэр, на удивление ровно и почти не запинаясь. — Или ты просто-напросто распущенная девка, которой захотелось чего-то горячего?
В такие моменты Лена очень жалела, что понимает немецкую речь. Додумывая по смыслу о те слова, значение которых на уроках в училище не проходили. Самое трудное при этом было не выдать себя и даже мимолетным движением ресниц не показать, что ты чувствуешь, слушая подобное.
— Ты ведь знаешь, я могу делать с тобой все, что захочу. Абсолютно все.
Она хорошо знала об этом. Слышала по разговорам в швейном цехе и на рынке. От мужского насилия не было никакой защиты, несмотря на полицию и новые правила, установленные комиссариатом. Закон сейчас был только один — местный «недочеловек» не имеет никаких прав, потому немец может делать все что угодно. Особенно офицер.
То ли от холода в нетопленом коридоре, то ли от волнения и страха Лену заколотило мелкой дрожью. Она не смела даже шелохнуться, опасаясь спровоцировать гауптштурмфюрера. Никогда до этого момента она не была так близко к нему. Никогда не чувствовала в нем той силы, с которой столкнулась в эту минуту. Физической силы крепкого мужчины.
— Посмотри на меня, — приказал Ротбауэр. Она не подчинилась, решив до последнего вести привычную игру, и тогда он легко ударил ее по щеке, заставляя повернуть к нему лицо и посмотреть на него. Не больно ударил, но неприятно. Показав, кто тут хозяин, а кто безвольный раб.
Они недолго смотрели друг другу в глаза. Ротбауэр сдался первым. Отступил на шаг назад, выпуская из плена своих сильных пальцев ее локоть.
— Пошла вон! — бросил сквозь зубы как собаке. Эту фразу за месяцы оккупации выучил каждый житель. Притворяться не было больше смысла, и Лена поспешила убежать в свою комнату, где еще долго пыталась унять дрожь и согреться под одеялом. С того момента она отчетливо поняла, что нигде отныне, даже в стенах родного дома, ей не почувствовать себя в безопасности.
Заснула Лена только на рассвете, поэтому, когда раздалась резкая трель будильника, проснулась с тяжелой головой. Мама еще спала, и она не стала ее будить. Постаралась бесшумно собраться. Торопилась, даже не позавтракала, зная по опыту, что на рынок лучше прийти к самому открытию. Тогда будет самая толчея — продавцы будут спешно раскладывать товар, а покупатели толкаться, пытаясь рассмотреть, где и что можно ухватить первым. В это время полицейские не такие внимательные, не так пристально вглядываются в толпу, подмечая новые лица или подозрительные разговоры.
Странно, но в этот ранний час Ротбауэр уже был на ногах. Лена заметила его в щель прикрытой двери в комнату. Он стоял перед зеркалом в майке и пижамных брюках и брился. Повернулся на звук ее шагов и взглянул прямо на нее, заставляя смущенно покраснеть от его неприбранного вида. «Совсем домашнего вида», — почему-то крутилось в голове Лены, пока она торопилась к рынку.
Хорошо, что идти было далековато, а общественный транспорт немцы так и не запустили в Минске. Утро было непривычно для конца марта холодным. Лене даже показалось, что легкий морозец покусывает кончики пальцев, щеки и уши, пробирается под тонкое пальтишко. Но быстрая прогулка помогла постепенно согреться. Только замерзшие пальцы еще долго не слушались, когда Лена, толкаясь среди других посетителей рынка, подходила к прилавкам, чтобы посмотреть и потрогать товар. На самом деле, ее ничего не интересовало. Она просто тянула время, чтобы спустя некоторое время можно было спокойно, без опаски подойти к ларьку сапожника.
— У меня прохудились тапочки. Подошва оторвалась, — протянула Лена, поздоровавшись, мастеру свою домашнюю обувь.
— Можно же походить и без них, — отозвался тот, раскладывая инструменты на столе. — Чего зазря тратиться?
— Босиком холодно. Ноги мерзнут, — ответила Лена, и сапожник кивком показал, что согласен взять работу. Она достала из холщовой сумки сверток с тапочками, протянула сапожнику и стала показывать на истертую подошву.
— Немец вчера вызывал к себе. Он знает, что я говорю по-немецки, — проговорила Лена тише обычного, указывая пальцем на носок обуви. — Хочет, чтобы я работала на него. Его помощница возвращается в Германию.
— Почему ты? — нахмурился ее собеседник. Затем окинул внимательным взглядом площадь рынка, выискивая возможную слежку. Лена с трудом удержалась, чтобы не сделать то же самое. Она проверяла по пути на рынок. Никто за ней не шел.
— Яков… я не знаю. Мне кажется… кажется… — Лена несколько раз начинала фразу, но так и не смогла закончить. Озвучивать свои подозрения было стыдно. Но Яков, ее бывший сосед по квартире только кивнул, забирая из ее рук обувь якобы на починку.
— Я спрошу у Дяди Коли. Но я уверен, нужно согласиться на это предложение.
— Это означает работать на немцев! — вспыхнула Лена.
— Ты и сейчас на них работаешь, — возразил Яков ей в ответ.
— Но не так! Не так!
— Так ты будешь полезнее, — стал заверять ее сапожник, крутя в руках тапочки. — Ты будешь работать там, куда нашим сложно пробиться. Ты будешь знать, на что они нацелятся в следующий раз. А еще соберешь информацию о том, кто лижет им сапоги с огромным удовольствием. Как Вацлав Козловский. Думаю, Дядя Коля прикажет выйти на эту работу.
— Надеюсь, что нет, — честно ответила Лена, в душе казня себя за такое малодушие. Что делала она такого в сравнении с этими людьми, с которыми работала через Якова? Они намного больше рисковали собой, печатая листовки и газеты, собирая оружие и лекарства для партизан, создавая поддельные документы, по которым помогали бежать военнопленным или несчастным из гетто.
Она всего лишь была мелкой пешкой, изредка забирая на хранение печатную агитацию или гранки для создания документов в случае угрозы обысков. А еще когда-то вынесла вместе с Тосей Заболоцкой с фабрики три немецких мундира унтер-офицеров. Мастер тогда устроил допрос работницам, раздавая пощечины и тумаки, а потом целый месяц лично обыскивал их, противно шаря по телу своими толстыми ладонями. Лена боялась, что мастер сообщит руководству, а то проинформирует гестапо, но Тося только посмеялась над ее страхами.
— Жирный боров ни за что не признается в своем промахе начальству. Это всего лишь три мундира, а не целая партия. Он сам прикроет нас. Главное — не выдать себя, и чтобы девчонки не выдали.