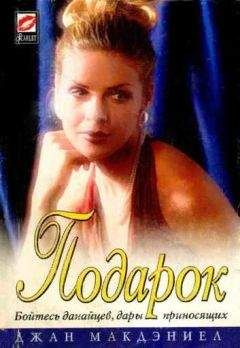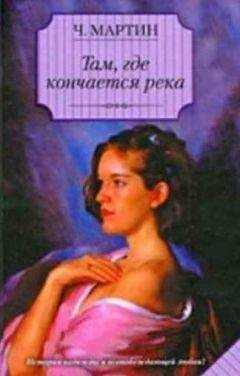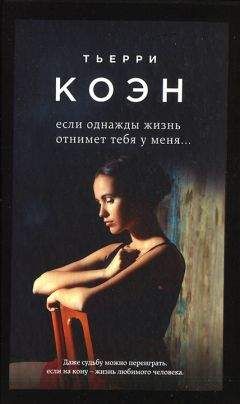Марина Струк - Обрученные судьбой
Ксения уткнулась лицом в подушку, пытаясь сдержать слезы, что навернулись на глаза. Обернуться бы ныне птичкой, что недавно смолкли за окошком, расправить крылья да полететь к низкому срубу, что стоял среди построек на заднем дворе, проникнуть через маленькое оконце под самой крышей внутрь темной хладной. Она бы тогда опустилась подле него, прочирикала-прошептала бы в его ухо: «Не я то, Владек, милый, любимый… не я то».
Но она женщина, а не птичка, и вынуждена лежать в перинах, изредка посылая одну из девок послушать к покоям мужа, выяснить, где тот и что намерен делать ныне. Пока же тот спокойно почивал в своих покоях, даже не навестив пленников перед тем, как уйти в свои хоромы вечор, и Ксения перед сном молилась перед образами, чтобы и далее тому что-нибудь помешало пойти к ляхам, открыть для тех пыточную. А то, что это случится непременно, у Ксении сомнений не было — не спустит Северский ляхам позора, кровью его смоет со своего имени.
Как помочь тебе, милый, как спасти тебя, стонала душа Ксении. Она разрывалась на части от желания вырвать Владислава из рук черной недоли и от страха перед мужем, что терзал ее. Будь они снова на дворе ее батюшки, она бы тотчас бросилась бы к Владиславу, но ныне они в вотчине Северского. И она здесь роба, такая же пленница, как и шляхтич. Даже представить было страшно, какие последствия могут ждать ее, коли все откроется… Да и как помочь ему — она даже из терема своего редко выходит…
Откуда-то издалека донесся до Ксении громкий раскат грома. Она подняла голову и снова взглянула в окно. Небо за это короткое время уже затянуло темно-серыми тучами, предвещая грозу, что шла на вотчину Северского.
— Гроза идет, — прошептала Ксения и замерла при воспоминании, больно кольнувшем сердце. «…Гроза идет. Темная страшная гроза… Всех заденет… всех…», сказал тихо старец в тот день на лугу, и только ныне она поняла горький смысл его слов.
За окном прогрохотало еще сильнее, чем прежде. Проснулись девки, спящие на полу спальни, подле постели боярыни, запричитали-зашептались испуганно, и Ксении пришлось прикрикнуть на них, хотя сама оробела перед надвигающейся стихией. Налетел ветер, стал бить с грохотом резные ставни о стену терема, и служанки опомнились от морока, бросились по всему терему закрывать распахнутые настежь слюдяные окна, плотно притворять деревянные ставни.
Скрипнула тихонько дверь спальни, и внутрь проскользнула фигура, метнувшаяся к постели Ксении. Та едва сдержала при том испуганный вскрик, все же признав в той Марфуту, которая бросилась к боярыне, опустилась на колени у постели, прижалась мокрой от слез щекой к ладони Ксении.
— Не прогоняй, — прошептала она. — Некуда мне боле идти…
Вернулись прислужницы, но Ксения взмахом руки отослала их вон из спальни, приказывая оставить ее наедине с Марфутой. Та сидела будто в мороке — широко распахнутые глаза глядели в никуда, бледное лицо в обрамлении редких прядей волос, выбившихся из-под убруса, слезы, медленно катящиеся из глаз тяжелыми крупными каплями.
— Нет мочи быть в доме. Эта колыбель пустая… Свекровка молчит, в сторону глаза отводит, когда взглядом цепляемся. А Владомир… Только и знает, что твердит — будут еще детки, будут. Словно ему и дела нет, что так случилось! Не хочу я других деток, Ксеня! Василька своего хочу! Я ж его под сердцем носила, грудью своей вскормила. Мне до сих пор запах его кожи мнится! — она вдруг разрыдалась в голос, прижавшись лицом к постели боярыни, и Ксения склонилась к ней, принялась гладить по голове и спине, утешая. Только вот что сказать безутешной Марфе сейчас она так и не придумала, молчала, слушая ее слезы, ощущая безмерную тоску на душе.
Тихо зашелестел за окном спаленки дождь, будто сама мать-природа оплакивала ныне вместе с этими женщинами их горькую судьбу. Снова громыхнуло в небе долгими громовыми раскатами.
— Господь меня карает, — прошептала вдруг Марфа. — За грехи мои тяжкие, за ложь мою, за измену тебе.
— Марфута, не думай так, не права ты. Дите твое Господь к себе забрал несколько седмиц назад, — возразила ей Ксения быстро. — А то, что случилось… недавно то было…
— И Матвей Юрьевич… Лгал мне выходит, а ведь тоже на кресте клятву давал, что не пустит с торгов Василя моего, — горько проговорила Марфа, будто не слыша Ксению. — Только вот его клятва по всему вернее выходит.
Она утерла мокрое лицо широким рукавом рубахи и взглянула на Ксению. В ее глазах плескалось такое горе, что та не выдержала, привлекла к себе, обнимая крепко.
— Вот ты меня, Ксеня, обнимаешь, утешаешь в горе, — глухо произнесла Марфа. — А должна была плюнуть в глаза мои бесстыжие, проклясть меня проклятьем страшным. Я же лучше других ведала, как ненавистен тебе Северский, и сама же к нему привела обратно. Да еще и их… и его… Ведь видела, как люб он тебе, как ты ему люба.
Она вдруг отстранилась от Ксении, замерла на миг, словно раздумывая, а после заговорила, не поднимая глаз на боярыню:
— Лях-то сердцем к тебе прикипел, Ксеня. Сама слышала, как он о тебе с дядькой усатым речи вел. Не к Северскому он вез тебя, к себе на двор, в Ляхию свою, — она полезла рукой за пазуху и протянула Ксении полоску голубого шелка, что когда-то вытащила из-за полы жупана одурманенного шляхтича. Та замерла, не смея поверить своим глазам, чувствуя, как больно сажалось сердце от того, что она видела в руках Марфуты. — Узнала, Ксеня? Твой налобник. С собой забрал, видать, тогда, когда в хладной нас оставил, у сердца носил с тех пор.
«… Я ведь думал о тебе, моя драга. Потом, после того дня. Сначала часто, потом забылось, только изредка приходили думы… Не веришь?», донеслось до Ксении из того далекого ныне дня, когда разбилось ее хрупкое счастье. Своей же рукой разбила, сама все порушила!
Ксения аккуратно взяла в руки этот шелк, расшитый речным жемчугом, провела пальцем по нему, представляя, как некогда это нехитрое движение творили другие руки. Руки, которые заставляли ее сердце замирать от восторга, а тело — петь от наслаждения. Руки, прикосновения которых ей никогда более не доведется испытать.
Почему он не показал ей этот налобник ранее? Почему не признался ей в том, что чувствует к ней? Ксения упала на постель, пряча лицо в подушках, вспоминая раз за разом каждый миг, проведенный подле него, каждое касание руки, касание губ. А потом вдруг всплыли в голове глаза, горевшие огнем ненависти: «…Сука! Отольются мне твои слезы, говоришь? А я-то, дурак, верил тебе…!»
— Я помогу ему! Не позволю ему сгинуть тут! Не позволю! — решительно прошептала Ксения, выпрямляясь, и Марфа испуганно отшатнулась от постели, озираясь на дверь, словно ожидая, что сейчас в спаленку ворвется Северский.