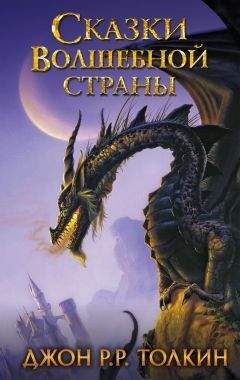Кейт Форсайт - Старая сказка
Плечи у меня поникли. Я-то думала, что почувствовала в нем необузданность и порывистость, стремление к свободе, не уступавшее моему собственному. А он, стоя передо мной, изрекал унылые банальности, которые я так часто слышала с церковного амвона. Но тут Тициан снова удивил меня.
— Я хочу показать, что Мария любит Иисуса, как женщина может любить мужчину, со всей силой ее страстной натуры, и как он тянется и стремится к ней. Он хочет дотронуться до нее, хочет ощутить прикосновение ее плоти к своей, но не может позволить себе этого. Для него настало время отказаться от всех этих страстей и желаний. Но она так красива, и так сильно любит его, что мысль о том, чтобы причинить ей боль, для него невыносима. И поэтому он говорит ей: «Не прикасайся ко мне», — но это в равной мере и мольба, и приказание.
Он произнес эти слова почти шепотом, так что я едва расслышала его. Я машинально повернулась к нему, чтобы лучше видеть его лицо. Он почувствовал мой взгляд и поднял на меня глаза.
— Не шевелитесь.
Я улыбнулась ему.
Он невольно улыбнулся в ответ.
— Чему вы улыбаетесь?
— Не знаю. Простите меня. Мне ведь полагается плакать, не так ли?
— Ваша улыбка нравится мне больше слез.
— Я могу встать? Я не привыкла столько времени проводить на коленях. — В моих словах прозвучал явный намек, но Тициан лишь вздохнул и с тоской посмотрел на холст.
Но ответ его прозвучал достаточно вежливо.
— Конечно. Встаньте, походите немного. Похоже, я сумел передать самое главное.
Я со стоном распрямила затекшую спину, а потом попыталась выпрямиться, но колени отозвались такой болью, что я покачнулась и едва не упала. Тициан бросился ко мне и предложил свою руку. Она оказалась такой большой и широкой, что моя собственная ладонь утонула в ней. Он без усилий подхватил меня и поддерживал до тех пор, пока я не ощутила, что могу стоять самостоятельно. Тогда он вновь вернулся к картине и стал рассматривать ее, недовольно хмурясь. Я прошлась по комнате, разглядывая стоявшие вдоль стен полотна, испытывая некоторую растерянность и неудобство. Любой мужчина на его месте попытался бы поцеловать меня или отпустил бы сомнительный комплимент насчет того, что еще могла я бы сделать, стоя на коленях, но Тициан, похоже, был озабочен только своим творчеством.
— А можно и мне взглянуть? — попросила я.
— Наверное, да. Но рисунок еще сырой. Фигура Марии получилась достаточно хорошо и, полагаю, мне удалось передать некоторые ваши чувства, а вот все остальное безнадежно.
Я встала рядом с ним и посмотрела на холст.
— Мне нравится пейзаж.
— Я попытался изобразить окрестности моей родной деревни, Пиеве ди Кадоре. Это неподалеку от Беллуно. Местность там постепенно понижается, теряясь в голубой дымке вдали, и кажется, что можно заглянуть за край земли.
— Вы выросли в деревне? А сад у вас был?
— Нашим садом была вся долина. Таких цветов вы больше не найдете нигде. Когда мне исполнилось десять, я нарисовал на стенах виллы Каза Сампиери Мадонну с младенцем и маленьким ангелочком, используя вместо красок сок, который выдавливал из полевых цветов и ягод. Моя семья была настолько поражена этим, что отправила меня сюда, в Венецию, где я стал учеником Зуккато, который создавал мозаики. Но прошло совсем немного времени, и я понял, что хочу рисовать красками, а потом мне удалось уговорить братьев Беллини взять меня к себе и обучить этому искусству.
Он нахмурился, глядя на картину.
— Но мне хочется превзойти их и стать величайшим художником современности. Но почему-то на холсте у меня пока не получается то, что я вижу в голове. Что-то не так. Равновесие. Баланс. Или форма.
— А почему Иисус в шляпе? — поинтересовалась я.
Тициан с удивлением посмотрел на меня.
— Но это же шляпа садовника. Когда Мария впервые увидела его в Гефсиманском саду, то приняла его за садовника. Видите, у него еще и мотыга имеется.
— Я вижу лишь, что он мог взять мотыгу, чтобы опереться на нее, если у него заныла спина, а все тело затекло так, как у меня, когда я попыталась выпрямиться в первый раз. Но все же, почему именно шляпа?
— Действительно, почему? — пробормотал он себе под нос и приложил палец к голове Иисуса, убирая шляпу, а потом отнял его.
Я же рассматривала собственное изображение. Мое присутствие на картине было почти незаметным, а фигуру мою скрывали развевающиеся белые рукава. На мой взгляд, одинокое дерево, торчавшее в верхней части рисунка, приковывало к себе намного больше внимания, чем моя фигура, скорчившаяся под ним. Кроме того, Иисус, вместо того чтобы быть искушенным красотой, казалось, стремится бежать от нее. Недолго думая, я выразила свои сомнения вслух, стараясь скрыть досаду под маской дружеского подшучивания.
Тициан же по-прежнему не сводил глаз с картины.
— Не могли бы вы еще раз встать на колени, как прежде?
Я выполнила его просьбу, расправив вокруг себя складки своей красной юбки. Откинув назад голову и опершись рукой на кувшин, острый край которого сразу же врезался мне в ладонь, я вновь устремила взгляд в потолок. Тициан позвал одного из своих учеников, занимавшегося смешиванием красок в дальнем конце студии, и приказал ему подойти и встать рядом со мной, оставив на себе из одежды лишь клочок простыни, повязанный вокруг чресел. Ученик был очень молод, старше меня всего на год или около того. Он покраснел, завидев меня стоящей на коленях у его ног, и, несомненно, попытался заглянуть мне в вырез платья.
— Да, — прошептал Тициан и яростно заработал кистью. Иногда он отбрасывал ее в сторону и наносил краску пальцами.
Его ученик замер на месте, держа руку перед собой, словно пытаясь прикрыть эрекцию.
Очень скоро мои колени запротестовали вновь. Боль от поясницы медленно ползла вверх, к неловко развернутым плечам, но я не шевелилась и не жаловалась. Я как будто вступила в молчаливый поединок с Тицианом. «Обрати на меня внимание. Обрати внимание, что мне больно. Посмотри, снаружи уже стемнело, а я провела здесь уже много часов, а ты даже не предложил мне выпить», — повторяла я мысленно.
Наконец его ученик не выдержал и издал сдавленный стон.
— Я… Мне нужно… — пробормотал он и бросился к двери.
— Бедный мальчик. Вам тоже показалось, что ему нужно оправиться? Должно быть, он терпел, сколько мог.
Тициан поднял голову и посмотрел на меня, словно удивляясь тому, что я все еще здесь.
— Неужели прошло столько времени?
— Очень много, — уверила я его. — Будет ли мне позволено разогнуть спину? Хотя я совсем не уверена, что у меня это получится.