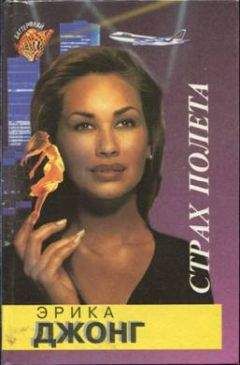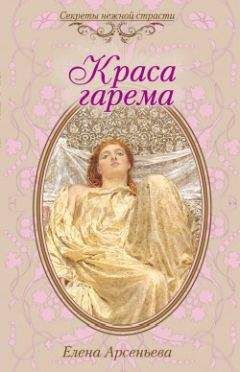Елена Арсеньева - Год длиною в жизнь
– Ну… хорошо… – И внезапно глаза его заблестели: – Не просто хорошо – отлично! Ты такая умница, моя девочка, ты просто великолепно все придумала!
«Полотно импрессиониста» – его лицо – так и сверкало буйством красок: белая кожа, яркий румянец, зеленые глаза, черные брови, рыжие кудри… Рита с обожанием смотрела в зеленые глаза и думала, что они с Максимом, пожалуй, поторопились одеться. А впрочем, долго ли раздеться вновь? Подумаешь, дело нехитрое!
И вдруг «полотно импрессиониста» словно белой пудрой присыпали. Краски поблекли, зеленый огонь в глазах погас. Рыжие кудри будто обвисли и вылиняли.
– Ну, что опять? – вздохнула Рита. – Что опять не так?
– Все так, – пробормотал Максим. – Все так, но я… я уже сообщил Антону о венчании. И назвал место и время.
– Ну так скажи ему, что ты просто пошутил, что никакого венчания нет, – начиная сердиться, проговорила Рита. – Наври ему, только и всего!
– Как я могу? – сказал Максим с таким выражением, словно ему предложили совершить кражу статуи Богоматери из собора, по меньшей мере, Нотр-Дам де Лоретт, не говоря уже о Нотр-Дам-де-Пари. – Как я могу?!
Мгновение Рита смотрела на него неподвижными глазами, а потом слезы так и хлынули.
– Ну тогда скажи ему, что свадьбы не будет! – крикнула она. – Свадьба отменяется! Скажи, что невеста тебе отказала!
И она ринулась к двери, но Максим перехватил ее, стиснул в объятиях.
– Никогда… – забормотал он, утыкаясь носом в Ритины русые кудри, – никогда не смей так со мной говорить! Никогда не кричи на меня! И если ты только подумаешь о том, чтобы меня бросить, я тебе голову оторву! Немедленно!
Они целовались как безумные, спеша помириться как можно скорей, сами испугавшись той черной тени, которая на миг пролегла меж ними. Они расстались не прежде, чем тысячу раз дали друг другу клятву презреть ради своей любви все остальные клятвы и обещания. Максим согласился заморочить голову Антону, Рита повторила, что перейдет в другую группу, чтобы не искушать бедного Огюста попусту. У них устали губы от поцелуев, и до наступления комендантского часа времени оставалось в обрез, когда они наконец разбежались. Завтра в пять вечера назначено было их венчание, после которого они будут неразлучны на веки вечные…
1965 год
«Дорогая моя доченька, Сашенька! Не думала я уже, что выпадет случай поговорить с тобой. И хоть не судьба нам повидаться, я часто смотрю на твою фотографию – и думаю о тебе, и мысленно к тебе обращаюсь. На той фотографии тебе только четыре года. Вот все, что у меня сохранилось на память о тебе. Не хочу опорочить память твоего покойного отца, но именно его вина в том, что мы с тобой не виделись ни разу за все эти долгие годы! Нет, я не вправе говорить о нем дурно, ведь он вырастил и тебя, и милого Шурку. Теперь они оба на небесах, вместе с моими сестрами, Олимпиадой и Лидусей, и оттуда, конечно, наблюдают за нами и диву даются причудам жизни, которая хоть и не позволила нам встретиться, но все же предоставила мне возможность послать привет тебе, мое дорогое, любимое дитя.
Ты сейчас взрослая женщина, у тебя есть дочь и внуки, как нам сообщил мсье Лавров. Странно, причудливо складывается жизнь, верно, доченька? У меня дрожат руки, в которых я сжимаю микрофон, в точности как в ту минуту, когда впервые взяла тебя на руки! Знаю, ты не поверишь, если я скажу, что не было в моей жизни дня, когда бы я не вспоминала тебя и Шурку. Когда я разговаривала с моим младшим сыном Алексом, я, чудилось, разговаривала с вами. Я целовала его – и целовала вас. Я наказывала его – и наказывала вас. Я сидела ночами над ним, хворающим (он рос очень болезненным мальчиком!), меняла компрессы, давала целебные отвары – и в то же время лечила вас, ваших горячих лбов касалась своими прохладными губами, ваши потные ручки сжимала в своих ладонях.
Ты можешь не поверить мне, Сашенька. Это твое право. Но ты прожила на свете много лет и знаешь, наверное, теперь, что жизнь – куда сложней, чем может показаться на первый взгляд. Она порою подставляет нам такие подножки, о которые может споткнуться даже самый строгий человек. А уж если в дело вмешивается любовь…
Я прожила жизнь, любя. Два человека, которых я безумно любила в жизни, мои мужья, Константин и Эжен, уже встретились в раю и, надеюсь, примирились. Надеюсь также, что и я увижусь с ними скоро, совсем скоро. Увижусь с Шуркой! Со своими сестрами и родителями! Какое это будет счастье!
Ну а сейчас, пока я еще жива, я испытываю огромное счастье от того, что ты слышишь мой голос и слова: дорогая моя девочка, доченька, Сашенька, целую тебя, обнимаю и благословляю. Твоя мама».
Чуточку дребезжащий, очень четко произносящий русские слова и в то же время совершенно не русский голос умолк.
Александра Константиновна некоторое время сидела, глядя на фотографию величавой старухи в черных кружевах и черной шляпе.
– Как странно… Как все странно… – пробормотала она. – Моя мать, Боже мой… Конечно, я на нее не сержусь, я вообще никогда на нее не сердилась. Сначала думала, что ее нет в живых, потом… потом я стала взрослая, слишком много пережила, чтобы осмелиться кого-то судить, тем более – родную мать. Вы ей так и передайте. Хорошо, Рита?
– Лучше, если вы все скажете сами, на магнитофон, – предложила Рита.
– Нет, я буду слишком волноваться, – качнула головой Александра Константиновна. – Я никогда не была сильна в речах. Лучше напишу. Я вообще люблю писать письма, да особенно некому, а тут… моей маме…
Она виновато улыбнулась и быстро поднесла фотографию Эвелины Ле Буа, бывшей Русановой, к губам. Положила на стол, где среди чайных чашек, остатков пирожных, коробок с духами и какими-то диковинными сувенирами (парижские подарки!) стоял плоский магнитофон в черном футляре. В нем еще крутилась пленка в маленькой кассете, кассете, которая не подходила к обычному магнитофону, а только к портативному. Например, к такому, под названием «Репортер», его принес Федор Лавров – взял у знакомого журналиста с областного радио.
– На такой же магнитофон я записывала мадам Ле Буа и боялась, что здесь мы не достанем чего-то подобного, – сказала Рита.
– Да ну, я бы пять таких «Репортеров» мог притащить. Или шесть, – с независимым видом провозгласил Георгий. – У нас в редакции их полно!
На самом деле ни у одного из газетчиков «Репортеров» не было: их выдали только трем лучшим журналистам на радио и трем на телевидении. Георгий сам не знал, зачем начал хвастаться. Его бросало то в жар, то в холод. Он вообще вел себя как идиот с той самой минуты, как раздался звонок в дверь и на пороге появились Федор и Рита. Например, забыл поздороваться с Лавровым, и тот какое-то время стоял с протянутой рукой.