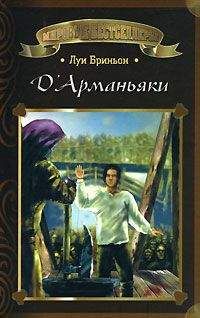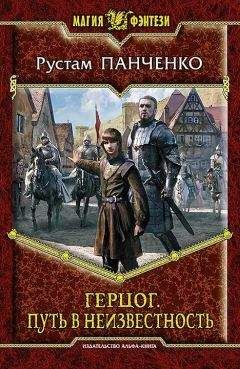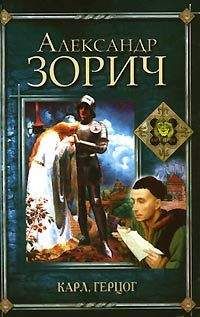Антонио Форчеллино - Червонное золото
Все соответствовало Евангелиям: ни один человек в жреческой одежде не присутствовал при мучении святого Петра. Однако никто из художников не осмелился изобразить эту сцену без малейшего намека на присутствие официального духовенства с его символикой и иерархией. На этой фреске присутствовала только вера. Поняли ли кардиналы это предостережение, этот призыв к простоте одеяний верующих первоначальной церкви? Гневное лицо Петра глядело на них с таким выражением, словно он вопрошал, понимают ли они, зачем у них тонзуры на головах. У Петра тонзура указывала на то, что он избрал для себя бедность и отказался от владения имуществом и богатствами, из-за которых церковь теперь тонула в крови невинно убиенных.
И это тоже был вызов официальной церкви. Микеланджело использовал всю силу своего таланта, чтобы бросить в лицо церковному клиру упрек в безнравственности и спеси, и сделал это именно здесь, в капелле, где, по замыслу Павла III Фарнезе, должны были собираться последующие конклавы. Все в его фреске призывало к чистоте и простоте веры, но в особенности — взгляд Петра, который с трудом выдерживал даже сам художник.
Пять раз он переписывал голову Петра, пять раз счищал штукатурку, пока не достиг абсолютного совершенства в выражении лица. Ни один из художников не смог бы этого добиться, только он, великий, посланный на землю, чтобы сокрушить суетность ее обитателей. Сильнее всех фреска поразила Ренату, ибо в ней содержался важнейший принцип: только истинно верующие могут составить церковь. Три года тому назад это прокричал с амвона в Лукке ее любимый проповедник Агостино из Каррары. За такое опасное в своей искренности утверждение на него донесли в инквизицию, и ему пришлось бежать, чтобы не попасть на костер. Теперь благодаря кардиналу Эрколе Гонзаге, брату Элеоноры, ей снова удалось добиться для него разрешения на служение. Однако кардинал написал ей длинное письмо, в котором призывал быть осторожнее, поскольку проповедник может наделать бед и ей, и ее семье.
Теперь Агостино жил в безопасности в Ферраре и мог спокойно произносить свои проповеди во время ближайшего поста, в то время как Микеланджело рисунками впечатывал те же принципы в самое сердце христианства. Это открытие захлестнуло Ренату такой радостью, что она задохнулась и стала искать глазами какое-нибудь окно, чтобы вдохнуть свежего воздуха, успокоиться и не расплакаться перед божественным художником и перед подругами. Но в капелле было всего одно окно, сквозь которое проникал тусклый свет, и не чувствовалось никакого дуновения воздуха.
Урбино в это время выпроваживал из капеллы стражников, и, пока он с ними о чем-то шептался, Рената подошла к двери, чтобы вдохнуть воздуха из огромного зала, который должен был стать залом высочайших аудиенций.
Микеланджело вглядывался в лица женщин. Они, как и Рената, старались справиться с охватившим их волнением. Виттория не смогла сдержать слез и прижала к губам платок.
Она медленно скользила взглядом вниз по холму, где распинали на кресте Петра, и вдруг сердце у нее остановилось и колени подогнулись: со стены на нее смотрела она сама. В нижней части фрески четверо женщин утешали друг друга, и одна из них повернулась в сторону зрителей, в тоске и печали от того, что происходило несколькими метрами выше.
Эти четверо женщин были они, и это она повернулась к зрителям. Со стены на нее глядел ее двойник, и у нее перехватило дыхание. Джулию, Элеонору и Ренату видно было хуже, но они могли узнать себя по тем деталям, которые цепко ухватил Микеланджело. Длинная благородная шея Джулии, непокорные волосы Ренаты и едва различимая голова Элеоноры были узнаваемы.
Виттория почувствовала, как сильные руки Ренаты поддержали ее, совсем как на фреске, и расплакалась, уткнувшись ей в плечо.
Высота этого чувства не поддавалась никаким словам. Маргарита понемногу начала понимать сцену, что разворачивалась у нее перед глазами. Микеланджело воздал почести «четырем главным светочам» новой веры, сделав их живыми свидетелями мучений святого Петра и подарив им бессмертие. Он сделал гораздо больше, чем Себастьяно дель Пьомбо и Тициан своей придворной живописью.
IX
ТАЙНЫЙ СОВЕТ В ОРВЬЕТО
(ИЗ ЗАПИСОК МАРГАРИТЫ)
Мы договорились выехать в десять часов на следующий день после визита к Микеланджело. Перед тем как прибыть в палаццо Колонна, у меня было время попрощаться с Тицианом. Люди Виттории не спеша упакуют багаж и поедут другим экипажем. На сборы у меня был целый вечер, Алессандро пришел уже поздно ночью. Теперь, когда надо было уезжать из Рима, меня охватила болезненная тоска. И дело было не в красоте города, а в атмосфере терпимости, еще более привольной, чем в Венеции, в его бесконечной истории, о которой рассказывал любой камень, помогая каждому почувствовать свое место в грандиозном, удивительном театре и оставляя за каждым право принимать себя всерьез.
В Риме все было настолько великолепно, что самые беспокойные умы успокаивались и приходили в согласие с собой. Даже красный африканский песок, который иногда, во время сирокко, по ночам сыпался с облаков, приближая город к пустыне львов и магов, делал его уникальным местом с особым предназначением.
Это предназначение и сбило меня с толку. Я ощутила это, когда собралась уезжать из города, зная, что никогда его больше не увижу.
Рано утром я была уже возле северного входа в Бельведер. Здесь, в удобном и просторном жилище, с окнами, открытыми с вечера, обитал Тициан.
Подходя к его дому, я подумала, что не смогла бы уехать, не поблагодарив его за великодушие. Испанская гвардия проводила меня до массивной двери орехового дерева, увитой виноградной лозой, на которой среди желтых и оранжевых листьев еще висели лиловые гроздья. Их словно развесили в честь художника, любившего эти цвета и на своих холстах добивавшегося в них всех мыслимых и немыслимых оттенков.
В комнате, которую Тициан оборудовал под студию, стояло большое полотно: портрет Папы с племянниками Оттавио и Алессандро. Фигуры выглядели такими живыми, что многие, проходя мимо портика террасы, куда картину поставили, чтобы просохли краски, преклоняли колена, убежденные, что приветствуют самого понтифика. Об этом говорил весь Рим.
Картина стояла наискосок от выходившего на юго-восток окна, из которого по вечерам лился теплый свет. Возле нее на столе располагался большой ящик с десятками фарфоровых шкатулочек с красками, вставленных для равновесия в приподнятые рамки.
В белых блестящих чашках растертые и смешанные с льняным или маковым маслом краски обретали глубину и прозрачность тона, напоминавшую блеск драгоценных камней или свежевыкрашенного бархата. А рядом с ящиком, на столе, в маленьких круглых чашечках, Тициан экспериментировал, ища разные оттенки цветов, и наносил их на гладкие плоские керамические тарелки, контролируя густоту или прозрачность тона.