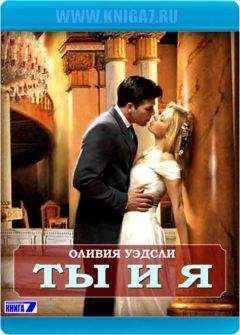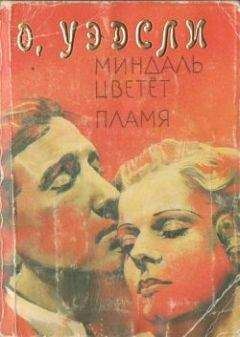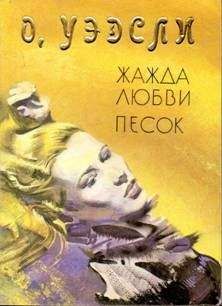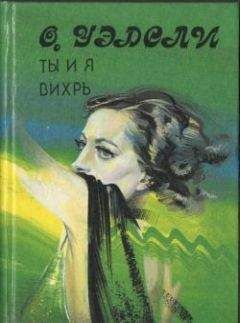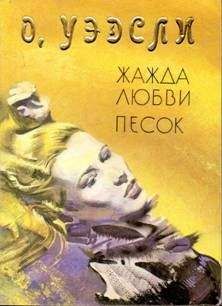Оливия Уэдсли - Миндаль цветет
О зеленых глазах говорят, но они почти никогда не встречаются в действительности и оказываются по большей части просто карими; но Дорины глаза были светло-зеленые, как вода при ярком свете, а когда были в тени, напоминали жасминную листву.
Только теперь эти глаза больше никогда не смеялись.
Джи с прискорбием видела это и видела ненормальную худобу девушки.
«Надо ее вырвать отсюда, – подумала она. – Подавленный темперамент – это чертовская штука».
Обратившись к Доре и наблюдая, какое это произведет на нее впечатление, она сказала:
– Дорогая моя, ты проведешь сезон у Гермионы Лассельс.
Дора повернулась.
– Разве я хочу провести сезон у Гермионы Лассельс? – спросила она.
– Несомненно, тем более что так или иначе тебе придется провести сезон в Лондоне, – ответила Джи. – Ты едешь завтра.
– Значит, мной распорядились, – пробормотала Дора, глядя на Тони.
– Тетя думает, что так будет хорошо, – поспешил он объяснить.
К их удивлению, Дора сказала довольно безучастным голосом:
– Что же, может быть, там будет веселее. – И медленно побрела к двери.
Когда она вышла, Джи сказала:
– Это весна, дорогой мой, и тут налицо ее обычное влияние. Дора чувствует себя подавленной. Берклей-сквер будет отличным лекарством от этой болезни; вспомни мои слова.
– Хотелось бы, чтобы так было, – сказал Тони разочарованным тоном.
Он ожидал, что произойдет стычка и он будет иметь случай проявить свой авторитет или, по крайней мере, даст понять, что он может его проявить, и вдруг такая покорность отняла у него возможность показать то, чего на самом деле у него не было.
Одним из самых неприятных моментов в жизни бывает тот, когда обнаруживается, что другие уже давно видят вашу слабость, а вы были уверены, что только вы одни ее замечаете.
После отъезда Джи Тони пошел прогуляться. Он не переставал проклинать Пана, к которому он испытывал чувство ревности. Он сознавал, что Пан отнял у него Дору. С той несчастной зимы, когда все это произошло, она уже никогда не была прежней. Иногда доходили смутные слухи о Пане, о его непрекращающихся сумасбродствах, о том, что он был в Бухаресте, Биаррице, Берлине – там, где веселье и женщины. Все эти слухи Тони, не стесняясь, передавал Доре, но она ничем на это не реагировала.
Пан был бы в восторге, если бы он знал, какую победу он одержал, влюбивши в себя Дору: жизнь Тони стала абсолютно пуста.
«Может быть, Лондон заставит ее забыть, – подумал он, вздохнув. – И есть о ком вспоминать. О Пане, который после нее любил не менее десятка женщин и ее покинул только потому, что предпочел ей деньги!»
Тони никогда не мог решиться открыть ей всю правду: все-таки Пан был его братом, у них был один отец.
Кто бы, находясь в таком положении, мог решиться на это!
Они отправились в город на другой же день. Предполагалось сделать для Доры жизнь возможно более привлекательной. Конечно, она и раньше бывала в Лондоне; Тони и Джи возили ее туда ежегодно, и тогда эти поездки носили случайный характер, и для них не требовалось никаких особых приготовлений. Теперь же, когда она должна была остаться там надолго, необходимо было снабдить ее новыми платьями и прочими предметами туалета.
Гермионы, или Ион, как она сама приказывала себя называть, к великому негодованию Джи и Тони, не оказалось дома; Дора отнеслась к этому безразлично; она и раньше встречала эту даму и не питала к ней особого чувства.
Хозяйку ожидало множество гостей, которых Джи и Дора знали только по именам и которых Тони совсем не знал. Был подан чай, и за ним председательствовали Джи и Дора.
В шесть часов явилась Ион. Это была пышущая здоровьем женщина, но она напускала на себя такой вид, будто она страшно утомлена. Ей нравилось производить впечатление хрупкого создания, и ее великолепные модные платья были также рассчитаны, чтобы производить этот эффект.
Муж ее, Чарльз Лассельс, обожал ее, и она заботилась о том, чтобы это чувство в нем никогда не угасало; он не был умен, но она сумела сделать его интересным и не пропускала случая выражать ему свою привязанность.
Живость ее, несмотря на томный вид, была неистощима, и ее одинаково ценили и любили и как хозяйку, и как гостью.
Как только она вошла, комната как будто наполнилась веселым светом солнца. Она со всеми перецеловалась, всех назвала «дорогими», заявила, что она «умирает, так хочет чаю», зажгла папироску и тотчас стала делать разные предположения относительно вечера, а в то же время мысленно оценивала Дору: «Избалована, добра, своевольна, страстна, с характером или, по крайней мере, будет с характером. Забавная девушка. Хорошо, что она красива».
Они пообедали в половине девятого, в десять отправились смотреть какую-то пьесу, которая окончилась без четверти одиннадцать; потом поехали к кому-то в гости, пили шампанское и танцевали.
В два часа Тони отвез Дору обратно на Берклей-сквер, а сам отправился в отель, жалея, что Джи уже уехала, и в душе радуясь тому, что на другой день ему тоже можно будет возвратиться в Гарстпойнт.
Утром Дора проснулась в девять часов, поделилась с приехавшей с ней Эмилией своими впечатлениями вчерашнего дня, расспросила ее, как она провела вечер, приняла ванну и, считая долгом оказать внимание Ион, отправилась к ней в комнату.
Ион была еще в пеньюаре, с распущенными волосами, перевязанными сзади лентой. В таком виде ей можно было дать не более тридцати лет, хотя ей было уже сорок три. Она не красила волос, а только мыла их в каком-то настое из трав, чем при меньшем беспокойстве достигался тот же результат.
По правде сказать, она любила только самою себя, а также своего мужа и сына, составлявших как бы часть ее самой, но ей были не чужды родственные чувства. Кроме того, дом был так велик, что пребывание в нем Доры не доставляло ей никакого беспокойства; не следовало забывать, что Тони был богат и щедр.
Чарльз был ничтожеством, но в Лондоне, владея несколькими пароходами, он играл роль промышленного магната, а в деревне был просто добродушным помещиком. Николай, сын Ион, учился в одном колледже с Рексом. Это был беззаботный, веселый и красивый мальчик с хорошими манерами.
К несчастью, он не унаследовал блестящего ума матери, и Ион приходилось утешать себя тем, что он, по крайней мере, унаследовал ее и отцовскую красоту. Это было уже немало, но еще важнее в ее глазах было то, что он считал мать самой удивительной женщиной в мире.
Ион, никогда ничего не требуя, ни на чем не настаивая, всегда умела поставить на своем. Она добивалась этого тем, что применяла свои силы и свое внимание, нисколько этого не показывая. Женщины любили ее за то, что она говорила с ними, а не про них, и вообще было очень мало людей, которые не были бы к ней расположены. Она сама приписывала это, во-первых, своему очарованию, во-вторых, своему дому и, наконец, отсутствию в ней всякой напыщенности, что было вполне верно.