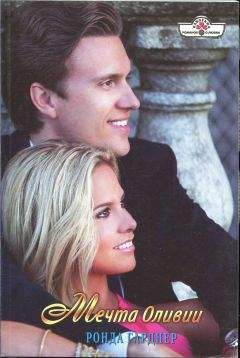Шарлотта Физерстоун - Одержимый
Опиум всегда был для него лишь забавой. Тем, что помогает коротать часы безделья в компании друзей. Он – лишь любитель, это повторял себе Линдсей, откинувшись на подушки и с томительным блаженством ожидая первой затяжки.
Он рьяно отвергал свою зависимость – ровно до того мига, пока опиум не замедлял течение его крови и не утяжелял веки. В этот момент, когда разум отделялся от тела, Линдсей больше не мог отрицать тягу к опиуму. Не мог отрицать, что удовольствие, которое приносил дурман, не было сравнимо ни с чем, что он когда-либо испытывал. Это было восхитительно: не чувствовать… ничего, кроме согласия с самим собой. Необыкновенного покоя, который он не мог не признавать.
Даже теперь, вдыхая пары из своей любимой трубки, Линдсей уверял себя, что может остановиться, только ради одного-единственного – шанса все исправить с Анаис.
Какой коварный, убийственный фарс: убеждать себя в том, что в любую минуту можешь бросить, вдыхая очередное облако дыма, и осознавать, что это – ложь!..
Линдсею было ненавистно делать это, зная, что Анаис лежит в соседней комнате. Казалась ненавистной сама мысль о том, что она увидит его в таком состоянии. Прежде стыд никогда не был для Линдсея частью процесса курения опиума. Он всегда думал, что это так по-декадентски, так загадочно и эротично – предаваться наслаждению в притоне, с обнаженными телами и погруженными в мечтания курильщиками. Это занятие никогда не было отвратительным. Грязным. И все же сегодня вечером он чувствовал себя вымазанным грязью и виноватым, куря свою трубку, когда Анаис находилась так близко.
«Но ты нуждаешься во мне, – казалось, нашептывал ему голос бесплотной любовницы, затягивающий в пучину соблазна. – Я нужна тебе намного больше, чем она».
Линдсею было глубоко омерзительно признавать, что это была чистая правда. Им владела сильная потребность ощущать опиум в своих венах. Да, он нуждался в опиуме, но он хотел и Анаис. Желал ее больше, чем опиум.
«Ты не можешь быть с нами обеими», – тихо звучало у него в ушах.
С помощью еще одной медленной затяжки из бамбуковой трубки Линдсей заставил этот голос замолчать. Он не хотел задерживаться на подобных мыслях. Не хотел чувствовать сегодня вечером. Не хотел думать.
В соседней комнате вдруг, закрывшись, стукнула дверь, и прежняя живость ума мгновенно вернулась к Линдсею. Об опиуме на некоторое время было забыто, трубка вернулась на серебряный поднос, где лежали остальные приспособления для пагубного ритуала. Скользнув пристальным взглядом по двери, Линдсей представил Анаис, спящую в его кровати.
Он тут же стал гадать, ушел ли наконец-то Роберт Миддлтон, освободив место у изголовья Анаис. На протяжении всего вечера Роберт ни на секунду не отходил от пациентки, бдительно охраняя ее покой. Линдсею оставалось только метаться по гостиной, как зверю в клетке. Он много раз прижимал ухо к двери, прислушиваясь к доносящимся из спальни звукам и с тревогой ожидая услышать низкий голос Броутона, заглушающий тихую речь Роберта. Но Гарретт почему-то не вернулся в Эдем-Парк с Уоллингфордом и женской частью семейства Дарнби. Линдсей не знал, что испытывал в большей мере – удивление или облегчение.
Мать Линдсея сопровождала леди Дарнби и Энн домой и по возвращении тут же разыскала его. Линдсею была в тягость вся эта радостная шумиха, которую подняла мать, узнав, что он вернулся домой после долгих скитаний. Он не хотел суматохи, вызванной ее исключительной, беспредельной любовью. Но мать настояла на том, что разместит всех Дарнби и их слуг, а потом, как только гости устроятся на ночь, Линдсей пообщается с ней в гостиной.
После такого длительного отсутствия Линдсею ничего не оставалось, как уступить желанию матери. Он любил ее, но во время беседы не мог удержаться от взглядов в сторону лестницы. Как же он мечтал увидеть там Анаис, спускающуюся вниз по ступенькам в своем блестящем газовом халатике! Мать Линдсея, разумеется, знала о его чувствах к Анаис. Но мать не понимала, что ничего уже нельзя было изменить, сделать так, как Линдсей планировал. Было ей невдомек и то, что он испортил все сам, своей собственной невоздержанностью. Он растоптал веру Анаис. И последнее, что Линдсей хотел теперь сделать, – это стянуть пелену неведения с глаз матери, точно так же, как он поступил с Анаис.
Возможно, он действительно такой же, как его отец. Что, если Линдсей нашел свое средство – другое, не алкоголь, – к которому можно прибегнуть, когда ты сбит с толку или желаешь спастись от давления окружающего мира? Линдсей предполагал, что это делает его просто вылитым отцом, ведь тот искал утешения на дне графина с бренди по точно такой же причине – ему требовалось спасение.
Вздыхая, Линдсей закрыл глаза и принялся слушать еле слышное тиканье часов, стоявших на письменном столе. Прошло немало времени с тех пор, как дом успокоился, а раны лорда Дарнби были обработаны. Часы минули с того момента, как Линдсей устроился в этой комнате, проигнорировав мольбы матери занять одну из других спален. Он объяснил, что тоже утомился и диван с шелковыми подушками для отдыха – все, что ему нужно. Но правда заключалась в том, что он хотел находиться ближе к Анаис.
Вслушиваясь в тишину, Линдсей старался думать о чем-нибудь другом, но все мысли упорно возвращались к Анаис, лежавшей в постели – его постели. Линдсей знал, что превратился в ничтожного, вызывающего жалость беднягу, который дрожит от сентиментальных страхов и ведет себя совсем как безусый юнец после первой любовной неудачи. Определенно, ему стоило последовать мудрому совету Уоллингфорда: «Найди себе женщину, Реберн. Согласная на все, доступная плоть – лучшее лекарство от твоих страданий».
Линдсей пытался сделать это, несмотря на тошноту, подступавшую к горлу всякий раз, когда он прикасался губами к другим. Но все эти женщины никогда не были столь же восхитительными на вкус, у Линдсея никогда не возникало желания ощутить одну из них под своими ладонями. За время пребывания в Константинополе он оставил озадаченной и неудовлетворенной не одну турецкую красотку.
Для Линдсея не существовало никакой другой женщины. Ни одна другая не могла заменить Анаис в его сердце. Ни одну женщину на свете нельзя было сравнить с ней.
Приглушенный звук открывшейся и снова закрывшейся двери спальни заставил тело Линдсея мучительно напрячься от осознания того, что на сей раз из комнаты, вероятно, вышла Энн. Эти подозрения подтвердились, когда Линдсей услышал шепот Энн и Миддлтона, доносившийся из коридора, к которому примыкала его спальня. Миддлтон провожал Энн до ее собственной спальни. Судя по всему, этот хороший доктор был уверен: состояние пациентки безопасно настолько, что она вполне может провести ночь одна.