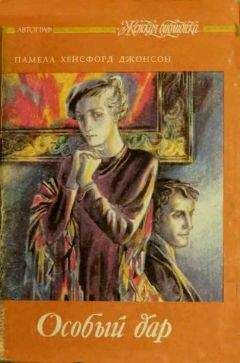Памела Джонсон - Кристина
Книга была написана для нас, для нашего поколения и нашего времени. Это была книга для молодежи, глупой, влюбленной, жаждущей молодежи, с ее смешными представлениями о вечности, с ее горячим сердцем и головой. Она была такой же неустоявшейся и бесформенной, как мы сами, и, как мы, была полна скрытого честолюбия, благородных порывов и отчаяния оттого, что мир целостен и прекрасен и мы никогда не сможем передать всей его красоты и сочтем за счастье, если хоть намеком, бессвязной фразой удастся рассказать о ней.
Я была пьяна от книги и в этом восхитительном состоянии опьянения пришла в контору, где меня ждали: записка от Нэда, назначавшего мне свидание днем в «Трокадеро»; мистер Бэйнард, веселый и напевающий, ибо он получил роль самого интересного молодого человека в пьесе «Сенная лихорадка», которую собиралось ставить этим летом любительское драматическое общество; и сияющий мистер Фосетт, который наконец мог объявить о помолвке своего наименее удачного сына с вдовой, способной обеспечить ему жизнь, к которой он привык.
— В воздухе запахло весной, — воскликнула мисс Розоман. — Какой восхитительный день!
И действительно, это был один из тех весенних дней, которые даже в Лондоне кажутся изумрудными или голубыми; сверкающий великолепный день, когда женщинам хочется надеть яркие платья.
— Грех работать в такой день, — робко заметила мисс Клик и, словно испугавшись, что мы расценим ее слова как непозволительное легкомыслие, поспешно добавила: — Но работать нужно.
Мисс Розоман, закинув руки, потянулась, отчего ее полная грудь упруго напряглась.
— Мне хотелось бы сейчас оказаться с моим дружком в Соннинге на берегу реки или еще где-нибудь.
Я была так счастлива, что меня даже не покоробили слова «мой дружок»; ни я, ни мои друзья не употребляли таких выражений.
Ты — ручеек,
я — ива.
Ты — божество,
я — прах…
— пел мистер Бэйнард слабым глуховатым голосом. Зная песню, я начала вторить ему, и как только он произносил «Ты…», я подхватывала на низкой ноте: «Ты — ручеек…»
В приемной под аккомпанемент гудящего пылесоса Хэттон пел свою любимую «Рано утром поднимайся…» Солнце щедро вливалось в окна, рисуя на блестящем паркете спокойные золотые квадраты. День, как никогда, начался хорошо. Мои мысли были заняты попеременно то Томасом Вульфом, то Нэдом, и в это утро я работала с той великолепной точностью, которая доступна секретарям-машинисткам лишь в состоянии полного транса. Я стенографировала письма мистера Фосетта, не слыша ни единого слова из того, что он диктует, и, когда пришло время их печатать, они показались мне совершенно незнакомыми и очень интересными. В двенадцать часов (обычное время моего перерыва), радостная и счастливая, я отправилась на свидание с Нэдом.
Он еще ни разу не приглашал меня к ленчу, главным образом потому, что время моего перерыва было весьма ограниченным; тем более необычным показалось мне теперь это приглашение. Ресторан был довольно шикарный, и я радовалась, что на мне мой новый серый костюм и шляпка.
— Мило, — сказал Нэд, с удовлетворением оглядев меня с ног до головы. Он провел меня в жаркий, залитый светом электрических ламп обеденный зал ресторана. Запах жареного мяса вызвал чувство голода. Было приятно чувствовать себя голодной, красивой и влюбленной.
Как всегда, Нэд принялся расспрашивать меня о моей жизни, моих привычках, вкусах, симпатиях и антипатиях, о моих немногочисленных детских романах и о моих друзьях — Айрис, Каролине, Дики, Лесли и Возьмем Платона. Моя манера рассказывать забавляла его, глаза его блестели, были спокойны, полны нежности и легкой иронии, но где-то в глубине их притаилось что-то незнакомое, настораживающее.
— Неплохо для такой маленькой девчушки, — заметил он, заставив меня назвать ему имена четырех юнцов, из-за которых я поочередно проливала слезы где-то между двенадцатым и шестнадцатым годом моей жизни. — Но больше я этого не потерплю. Довольно всяких Дики, Лесли и Платонов.
— Но был всего лишь один Лесли, да и то это было так давно. — Я не могла удержаться от смеха. Нам было хорошо вместе, мне была приятна его шутливая ревность, и время бежало незаметно.
— Мне пора, — наконец сказала я. — Стоит мне опоздать на пару минут, как подымается невообразимый шум.
Я была уверена, что Нэд тут же позовет официанта, но он не сделал этого.
— Пусть подождут на сей раз. Дело в том, что у меня есть для тебя новость. Я открываю собственную контору по продаже недвижимости. — Он неоднократно говорил мне, как ему неприятно работать в конторе отца. «Это так же плохо, как учиться в школе, где преподает кто-либо из родственников».
Ему казалось, что самостоятельно он сможет добиться большего. Отец с матерью согласились ссудить его небольшим капиталом в дополнение к тому, что ему удалось скопить.
— Я начну весьма скромно, а затем постепенно расширю дело. У меня есть связи. Кроме того, у меня будет теперь ради чего бороться.
Если бы он сказал «работать» вместо «бороться», я бы решила, что он просто имеет в виду собственную независимость. Но то, что он выбрал такое слово, как «бороться», подсказало мне, что он говорит о чем-то большем, и я почувствовала, что от страха и волнения у меня замерло сердце. Он взял мою руку, поцеловал ее и посмотрел мне в глаза. Зал тонул в золотисто-красном мареве. Было очень душно. Гул голосов доносился откуда-то издалека.
— Но мы еще вернемся к этому.
Меня сковала робость, спутница первой любви, ее проклятие и ее очарование. Мой голос показался мне неестественным, когда я сказала, что рада за него и искренне желаю ему успеха. Потом я опять повторила, что должна спешить в контору и, если он не против, я не стану ждать, пока он расплатится с официантом.
Но он крепко удержал меня за руку.
— Нет, я против. Мы уйдем отсюда вместе.
Сердце пронизала такая острая радость, что мне даже стало стыдно. Я не осмелилась посмотреть Нэду в глаза. Но хотя мне нравился его безапелляционный тон, я все же вынуждена была возразить. Я отличалась почти болезненной пунктуальностью, унаследованной или, возможно, с детства привитой мне отцом. Куда бы я ни шла, я всегда старалась, чтобы у меня в запасе было не менее получаса. Если я опаздывала на обычную встречу с друзьями, я всегда очень огорчалась. Мысль же о том, что я могу опоздать в контору, привела меня просто в ужас. (На сей раз я не пила мартини, ибо Нэд никогда ее пил днем, и я не могла рассчитывать, что оно поможет мне при неприятном разговоре с мистером Бэйнардом.)
— Я должна идти. Это совершенно необходимо. У меня будут неприятности!