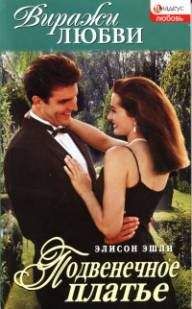Александр Дюма - Полина; Подвенечное платье
Когда было светло, я не обращала никакого внимания на мертвую тишину, но, с тех пор как погасла лампа, она проникла в мое сердце. Впрочем, в этом безмолвии было нечто загробное, от чего веяло могильным холодом… Я бы закричала, если бы надеялась быть услышанной. О! Это была такая тишина, которая восседает на камнях гробниц в ожидании вечности.
Странно, что приближение смерти заставило меня почти забыть человека, который был ее причиной. Я думала о своем безнадежном положении, я была поглощена ужасом; но могу сказать, видит Бог, что если я не думала простить ему все, то также не хотела и проклинать его. Вскоре я начала страдать от голода.
Время, которое я не могла теперь измерять, шло; вероятно, уже минул день, и наступила ночь; когда вновь взошло солнце, один луч, проникший сквозь какую-то незаметную трещину, осветил основание колонны. Я испустила радостный крик, как будто этот луч принес мне надежду.
Я неотрывно смотрела на него и стала ясно различать все предметы, которые он мог осветить: это были несколько камней, ветка дерева и кустик мха. Возвращаясь к одному и тому же месту, луч солнца осветил это бедное и тощее создание. О! Чего бы я не дала теперь за то, чтобы быть на месте этого камня, этой ветки или мха, лишь бы увидеть еще хоть раз небо через маленькую трещину.
Я начала испытывать жгучую жажду, мысли мои мешались: время от времени кровавые облака представлялись моему взору, и зубы сжимались, как в нервическом припадке; однако я все еще смотрела на луч света. Без сомнения, он проникал в отверстие слишком узкое, потому что, когда солнце ушло в сторону, луч померк и сделался едва заметным. Его истощение лишило меня твердости и последних сил: я в отчаянии заламывала руки и билась в судорогах.
Голод отзывался острой болью в желудке. Рот горел; я взяла клок своих волос в зубы и начала жевать. Меня лихорадило, хотя сердце едва билось. Я начала думать о яде: встала на колени и сложила руки, чтобы молиться, но в этот миг забыла все молитвы; я могла припомнить только отрывки и совершенно не помнила конца. Мысли самые противоположные сталкивались в голове; мелодия в ушах; я чувствовала, что разум оставляет меня, я бросилась лицом на землю и некоторое время лежала не шевелясь.
Оцепенение, вызванное волнением и усталостью, овладело мной; я заснула; однако мысль о моем безнадежном положении преследовала меня и во сне. Я видела сновидения, лишенные всякого смысла. Этот болезненный бред, вместо того чтобы дать мне какое-нибудь успокоение, совершенно расстроил меня. Я проснулась с чувством сильнейшего голода, изнемогала от жажды; тогда я вновь подумала о яде, который был подле меня и мог подарить мне тихую и легкую смерть. Несмотря на мою слабость, несмотря на лихорадку, взбудоражившую мою кровь, я чувствовала, что смерть еще далека, что мне надо ожидать ее еще много часов и что самые страшные из них еще впереди. Тогда я решилась в последний раз увидеть тот дневной луч, который накануне посетил меня как утешитель, проскользнувший в темницу, где сидит заключенный. Я устремила взор в ту сторону, откуда он должен был показаться; это ожидание утешило меня немного и позволило отвлечься от жестоких мучений.
Долгожданный луч наконец появился; он был тусклым и бледным: без сомнения, в этот день солнце было скрыто за облаками. Тогда все, что освещало оно на земле, представилось вдруг глазам моим: эти деревья, луга, вода, столь прекрасная, Париж, которого я не увижу больше, матушка моя, может быть получившая уже известие о моей смерти и оплакивающая свою живую дочь. От этой воображаемой картины, от этих воспоминаний сердце мое разрывалось, я рыдала и тонула в собственных слезах. Мало-помалу я успокоилась, и теперь слезы мои текли в абсолютной тишине. Я не отказывалась от своего прежнего намерения отравиться, однако страдала уже не так сильно.
Я неустанно следила взглядом за этим лучом до тех пор, пока он блистал; потом он поблек и исчез… Я попрощалась с ним, махнув ему рукой и сказала ему «прости», потому что решилась не видеть его более.
Тогда я углубилась в себя и сосредоточилась на своих мыслях. За всю жизнь свою я не сделала ни одного дурного дела; я умирала безо всякого чувства ненависти и не желала никому мстить; Бог должен принять меня как свою дочь: я оставляю землю для Неба. Это была единственная мысль, которая была способна меня утешить, и я привязалась к ней.
Вскоре мне показалось, что мои размышления разлились не только во мне, но даже и вокруг меня; я начала ощущать присутствие той святой веры, которая поддерживала твердость мучеников. Я встала и подняла глаза к небу; тогда показалось мне, что взор мой проник сквозь свод, пронзил землю и достиг престола Божьего. В эту минуту страдания мои обратились в религиозный трепет, исполненный восторга. Я подошла к камню, на котором стоял яд, я как будто видела его сквозь темноту; взяла стакан; прислушалась – не раздастся ли какой шум; огляделась – не увижу ли света; прочла мысленно письмо, которое говорило мне, что уже двадцать лет никто не сходил в это подземелье, и может быть, еще столько же времени никто не спустится сюда; смирилась в душе своей с невозможностью избежать тех мучений, которые мне оставалось перенести; поднесла стакан с ядом к губам – и осушила его; сожаление и надежда все еще жили во мне, и я обратила свои последние слова к матери, оставляемой мной, и к Богу, к которому уходила.
Я не могла больше стоять и упала. Небесное видение мое померкло; покров смерти простерся между нами. Мои страдания от голода и жажды возобновились; но теперь я мучилась еще и от яда. Я ожидала с тоской этого ледяного пота, который должен был стать предвестником последней минуты моей жизни… Вдруг я услышала свое имя, открыла глаза и увидела свет: вы были там, у решетки моей темницы!.. Вы – то есть свет, жизнь, свобода… Я испустила радостный крик и бросилась к вам… Остальное вы знаете.
Теперь, – продолжала Полина, – я прошу вас повторить клятву о том, что вы никому не откроете этой страшной драмы до тех пор, пока будет жив кто-нибудь из троих, ставших ее непосредственными участниками.
Я повторил ей свою клятву.
XIV
Доверие, оказанное мне Полиной, сделало ее еще более недоступной для меня. Я почувствовал, как далеко должна простираться та преданность, которая составляла мою любовь к ней и мое счастье; но в то же время понял, как неделикатно будет с моей стороны выражать свою любовь к ней иначе, чем нежными заботами и почтительным вниманием. Согласно существовавшей между нами договоренности, она выдавала себя за мою сестру и называла меня братом. Однако, опасаясь, что она будет узнана кем-нибудь в салонах Парижа, я уговорил ее отказаться от мысли давать уроки музыки и языков. Что же касается меня, то я написал матери и сестре, что думаю остаться на год или два в Англии. Полина все еще терзалась сомнениями, когда я уведомил ее о своем намерении, но, видя, с какой радостью я взялся за его исполнение, она не осмелилась больше противоречить мне. Таким образом между нами установилось согласие.
![Морли Каллаган - Подвенечное платье [Сборник рассказов]](/uploads/posts/books/237639/237639.jpg)
![Морли Каллаган - Подвенечное платье [Сборник рассказов]](/uploads/posts/books/237716/237716.jpg)