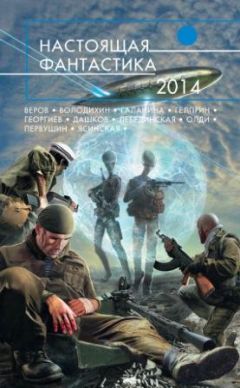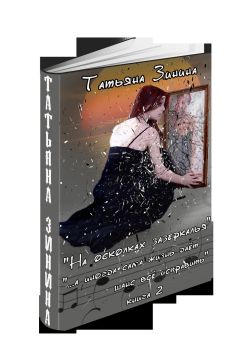На осколках разбитых надежд (СИ) - Струк Марина
Иногда Рихард напоминал сам себе Фурманна, который держался угрюмым молчуном в компании сослуживцев и сторонился любых совместных посиделок, предпочитая свою фляжку всем остальным. Он запретил себе вспоминать обо всем, что до сих пор вызывало саднящую боль в душе, но какие-то моменты или неосторожные вопросы непременно возвращали к ним. А сны не давали забыть — чаще всего это были кошмары, в которых его снова избивали в камере или ставили к расстрельной стенке, и он просыпался в холодном поту, чувствуя бешеный стук сердца в груди.
Непривычную всем отчужденность фон Ренбека, как он услышал позднее от своего механика, отнесли за счет потери любимой женщины, которую разгадали по отсутствию писем и слухам, которые прокатились по базе после того, как исчезла фотокарточка из кабины его самолета и со стены у койки. Потеря Вейха в одном из налетов на аэродром (когда парочка проклятых томми каким-то чудом вышла на их базу) только замкнула его еще больше и обозлила. Потому что даже тогда, в момент, в который Рихард был особенно беззащитен и морально, когда в полном одиночестве похоронил в одном из лесков неподалеку от аэродрома уже окоченевшее тельце своего верного товарища, русская снова вторглась в его мысли и в его душу, доказывая, что ничего не изменилось, что она по-прежнему властна над ним. Сидя у маленького холмика могилы собаки, он вспоминал не только Вейха, но и Ленхен, которую приказал себе забыть, но так и не сдержал этого намерения — затолкать все воспоминания в самый дальний угол своей памяти и заколотить дверь. Она вернулась вместе с воспоминаниями о его любимце, вырвалась из-за преград и снова прошлась штормом по израненной от потери Вейха душе. И тогда Рихард понял, что мать была отчасти права. Русская проникла в его жизнь настолько глубоко, что каждая часть, каждая деталь его настоящего и прошлого казалась связана с ней. И избавить от этого могла, наверное, только смерть, которая вдруг подошла совсем близко спустя несколько дней после потери Вейха, в начале мая 1944 года, когда Рихарду пришел перевод в 5-ю эскадрилью 200-й бомбардировочной эскадры [178].
— Ни черта не понимаю! — раздраженно бросил майор Бэр, еще даже не введенный приказом на место командующего эскадрой вместо погибшего недавно во время вылета прежнего командира. — Никогда не слышал об этой эскадрилье прежде, и…. Бомбардировочная эскадра? Пилоту-истребителю? Какого дьявола?
Рихард ничего не стал объяснять ему. Хотя прекрасно понимал причину этого перевода, вспоминая строки, которые написал собственной рукой под диктовку следователя в кабинете форта Цинна.
…Я добровольно соглашаюсь быть зачисленным в группу смертников как пилот управляемой бомбы. Я полностью осознаю, что мое участие в подобной деятельности приведет к моей гибели…
Глава 54
Иногда Рихарду казалось, что он просто спит и видит странный сон. Заснул в Орт-ауф-Заале, в усадьбе в горах, рядом с Ленхен и до сих пор не может пробудиться от этого проклятого сна, каждое продолжение которого напоминало дешевую сюрреалистическую пьесу в новомодных маленьких театрах, которые так яростно предавал остракизму рейх.
Ты понимаешь головой, что все происходящее абсурдно, видишь все логические огрехи и нереальность исполнения, но ничего не можешь с этим поделать, потому что кому-то кажется все это совершенно иным. И этих кого-то большинство, а ведь большинство не может ошибаться, значит, это с тобой что-то не так. А если так, если ты убежден в трезвости своих мыслей и убеждений, то становится предельно ясно идти против этого большинства — совершеннейшее безумие или же самоубийство. И тебе не остается ничего иного, кроме как смириться с этим действом, становясь его безучастным зрителем. Или покинуть эту пьеску, не желая быть ни зрителем ее, ни одним из героев, как сложилось. Если хватает духа для того, конечно.
Рихард уважал Ханну Райч [179], как первую женщину-пилота, добившейся так многого в новой Германии, где «каждый получал шанс воплотить свою мечту». Но ее замысел и базис существования 5-й эскадрильи о том, что истребитель может стать летающей бомбой, был просто идиотским, по его мнению. Впервые услышав об этом, Рихард едва не рассмеялся, решив, что это шутка о том, что одну из модификаций «Мессершмитта», этот маленький 328-й, переделают под эти цели. Или что к беспилотному «юнкерсу» можно прицепить управляемый истребитель, который должен при выходе на цель разорвать сцепку и отсоединиться от бомбардировщика. В конце концов, недаром были придуманы разные типы машины, верно? Каждая для своего дела. Как и все в этой жизни.
Но все это оказалось реальным. В день, когда Рихард прибыл в расположение секретной эскадрильи, прошло очередное неудачное испытание подобной сцепки, которое привело к гибели летчика. Был ли он действительно добровольцем или так же попал сюда, после пребывания под судом рейха, оставалось тогда только догадываться. Впрочем, Рихард впоследствии быстро нашел для себя ответ на этот вопрос — молодые пилоты, ярые приверженцы национал-социализма, беззаветно влюбленные в фюрера, были именно добровольцами. Те же, кто был постарше, имел звания повыше фельдфебеля и награды и относился ко всему со скептицизмом, видя идиотизм всей затеи при нехватке пилотов и машин для защиты Германии — в большинстве однозначно попали в эскадрилью не по своей воле.
Но был ли у них у всех выбор — у ослепленных рейхом юнцов, и умудренных опытом ветеранов? Нет, не было, кроме того, чтобы покинуть сцену жизни. И каждый ждал того дня, когда в день испытания выпадет его жребий, чтобы подняться в небо (а может, даже и не суметь этого сделать — разбиться при взлете, как это происходило с молодыми пилотами, неверно анализировавшими ситуацию) и умереть. И только опытных летчиков угнетала мысль о том, что эта смерть не принесет Германии ровным счетом ничего, что они погибнут совершенно зазря, в то время как бомбардировщики англичан и американцев медленно, но верно уничтожали города рейха с его жителями.
Это понимание давило морально настолько сильно, что рано или поздно кто-нибудь из «старичков» не выдержал бы и сорвался. И этим кто-то стал именно Рихард, который с трудом приучил себя сдерживать порывы гнева и раздражительности после травмы, но все еще срывающийся в них изредка. Так и произошло в последние дни мая, когда случилась очередная авария, унесшая жизнь очередного молодого добровольца.
— Это бессмысленная трата ресурсов, которые из без того ограничены в рейхе! — заявил Рихард резко и зло, когда позднее состоялось общее совещание для разбора ошибок этого испытания. На них нередко приглашались и несколько «старичков» эскадрильи, так же, как и начальство, наблюдающие полет со стороны.
— Осторожнее, майор! — осадил не менее резко его генерал Коллер [180]. — Это пораженческие речи! Вы знаете, к чему они ведут…
— Это действительность, от которой никуда не деться! — отрезал в ответ Рихард, стараясь не обращать внимания на предательский холодок страха при мысли о том, куда он мог снова попасть за эти слова — о каменных стенах форта Цинна, которые иногда снились ему. — Мы теряем машины, но что важнее — мы теряем людей, которые могли встать на защиту Германии или оказать влияние на ход войны. А ведь это наш долг в том числе — защитить немецкий народ от налетов томми и янки. Вы когда-нибудь бывали в обычном берлинском бомбоубежище во время налета, господин генерал? А вы, господин полковник? — обратился он к командующему эскадрой [181]. — Я был. Довелось в Берлине в феврале этого года. Одно из самых тяжелых моих воспоминаний, господа. Когда ты сидишь в форме люфтваффе в подвале в окружении простых людей, и все они смотрят на тебя с укором, потому что ты допустил все это — то, что «мебельные фургоны» смогли долететь до столицы и без усилий разносят дома и убивают женщин, стариков и детей своими бомбами, или сжигают их дотла адским огнем.