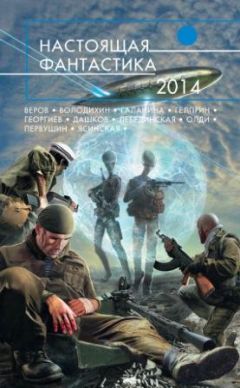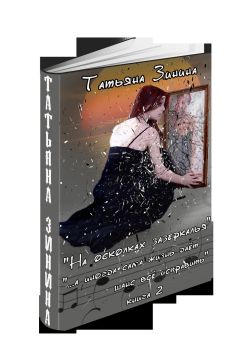На осколках разбитых надежд (СИ) - Струк Марина
Баронесса быстро коснулась губами его щеки, оставляя след помады, который после стерла нежным материнским жестом, стараясь не обращать внимания на явную холодность со стороны сына. Улыбнулась широко, скорее для тех, кто наблюдал за ними внимательно со стороны сейчас в холле гостиницы, чем для Рихарда.
— Прием у группенфюрера в семь, мой дорогой! — напомнила мать. А ее твердый взгляд настойчиво напомнил, что ему лучше быть там, принимая правила, как она и советовала ему.
В ту ночь Рихард впервые достал из кобуры именной вальтер с украшенной костью рукоятью, который ему какие-то три года назад прислал в подарок фюрер за тройную победу в воздухе во время одного вылета. Они и потом порой повторялись такие ночи, когда казалось, что оборвать все одним выстрелом будет самым верным решением. Когда побеждали сомнения о том, что ему нужно цепляться за мистическое убеждение о том, что после смерти в бою он попадет за ту грань, где найдет Лену. Когда приходило убеждение, что тогда суждено быть и после смерти связанным с ней одной лишь жгучей ненавистью, которую русская питала к нему, судя по всему, что Рихард слышал во время суда и как смутно помнил сам по части воспоминаний. Цепляться оставалось только за иные обрывки прошлого, в которых счастье виделось таким реальным и таким удивительно сладким.
Но предохранитель так и не был снят, а настрой уехать подальше от всех и от Лейпцига, неподалеку от которого была расположена военная тюрьма, мысли о которой до сих пор мешали дышать свободно, только окреп. И Рихард наспех побросал свои вещи в саквояж, нашел в лобби отеля дежурившего сотрудника гестапо в штатском и сообщил о своем отъезде, как следовало делать по строгим инструкциям, выданным некогда в форте Цинна.
Что это было тогда? Желание пойти вразрез со строгими указаниями? Или показать себе мнимую независимость? Он не знал. И даже не был уверен, что ему позволят вместо согласованных мероприятий в Лейпциге уехать в Дрезден. Но тем не менее это произошло — несколько часов в поезде, который изрядно задержался из-за угрозы налета, и он сошел на перрон Центрального Вокзала столицы Саксонии. Казалось ли ему, что за ним внимательно наблюдают все это время или нет, но ощущение чужого взгляда на своем затылке не покидало на протяжении всего пути от отеля в Лейпциге до Альбертплатц в Дрездене, где в одном из домов семья Фредди жила в двухэтажной квартире с мансардой.
Доротея совсем не ждала его, но понял по ее взгляду, что его неожиданный приезд был ей пусть и в слабую, но в радость. Горе иссушило ее, она потеряла всю былую прелесть, которая привлекала когда-то Фредди. Только дети заставляли ее хотя бы чуть-чуть «выныривать» из своих переживаний и оживать немного. Особенно маленький Кристиан, появившийся на свет в прошлом году, которому без матери просто было не обойтись.
Сначала возникла неловкость. Доротея была погружена в свое горе и очень рассеяна, а мальчики, отвыкшие от мужского присутствия в доме, вообще испугались и ударились в рев, отчего няньке, молоденькой польке, пришлось убрать детей от взрослых в детскую. От этого плача и морального напряжения у Рихарда привычно заломило в висках и затылке, и он даже пожалел, что приехал в Дрезден. Но постепенно отчуждение сошло на нет, а к вечеру и мальчики попривыкли к Рихарду, особенно Дитц, его крестник, который старался держаться поближе к мужчине, зачарованный его наградами, блестевшими в свете свечей, которые поставили на стол во время ужина.
Рихард для себя загадал, что поездка в Дрезден к Доротее станет знаковой. Если ему удастся уговорить ее уехать в Швейцарию, то все удастся и с троюродным дядей. Ведь убедить вдову казалось проще. Но вышло все совсем не так — Доротея наотрез отказалась уезжать из Дрездена даже к родителям в загородное поместье на побережье Балтийского моря. Захмелев от выпитого за ужином вина, она призналась Рихарду вдруг, когда остались наедине поздно вечером, что она не верит в смерть Фредди.
— Кто докажет мне, что это был мой муж? Человек, которого привезли в госпиталь в России, был настолько обгоревшим, что нельзя было с уверенностью установить его личность. Ни лычек на комбинезоне, ни татуировки с группой крови, и уже тем более — лицо, — с горечью говорила Доротея. — Это мог ведь быть и не Фредди, верно? Они так спешно отступали, что могла возникнуть путаница! Но никто — слышишь, никто! — даже не слушает меня. Не может ответить ни на один мой вопрос. Они все отмахиваются от меня! Считают помешавшейся от горя вдовой! А я не могу поверить без каких-либо доказательств, что в урне с прахом, который мне привезли с Восточного фронта, останки именно моего Фредди!
Рихард мог бы ответить ей на это, что путаница совершенно невозможна, особенно в отношении останков. Что для семьи большая честь и привилегия, что в Дрезден привезли прах кузена, когда могли бы похоронить прямо там, в России, как поступали с обычными солдатами и младшими офицерами. Он мог бы сказать ей все это, но промолчал, вспомнив о том, что его самого «похоронили» этим летом. Но и давать Доротее лишних надежд не стал, напоминая об этом. А просто попытался отвлечь ее от этих изводящих мыслей и убедить, что ей не стоит запирать себя в четырех стенах квартиры, ведь Фредди этого определенно не хотел бы.
— Скоро будет лето, — убеждал он Доротею, сжимая ее холодные ладони и стараясь не смотреть в ее опухшее от слез лицо. — Увези мальчиков хотя бы на эти месяцы из города. На побережье Балтики или к нам, в Розенбург. Ты же помнишь, как любил проводить лето Фредди в замке! А пока выходи сама на свежий воздух. Хотя бы на прогулки с мальчиками в Гроссен Гартен или на набережной. Когда ты последний раз выходила куда-нибудь?
— Ты говоришь, как моя подруга Шарлотта, — устало ответила Дора в ответ на его слова. — Один в один. Она даже принесла мне билеты в Дрезденскую оперу на какую-то новую постановку. Завтра, кажется, эта премьера. Если, конечно, я не перепутала даты.
Это показалось отличной возможностью вывести Доротею из дома и отвлечь ее хотя бы на пару часов. И Рихард с готовностью ухватился за нее, стал еще горячее уговаривать выйти в свет. Правда, сам едва не дал «задний ход», когда, получив ее согласие и в свою очередь заверив, что станет ее кавалером на этой премьере, узнал, что это балетная постановка этой русской, Гзовской, с которой он когда-то свел знакомство в Берлине из-за Лены.
Прошлое так и не уходило, не оставляло его в покое. Все по-прежнему оставалось где-то за плечом, чтобы, выгадав момент, вонзить острую иглу в его сердце и провернуть пару раз, наслаждаясь его муками. Теперь оставалось только свыкнуться с тем, что даже мельчайшие детали настоящего будут с размаху швырять его к жестокости прошлого.
Наверное, из-за тяжелых сердцу воспоминаний Рихард так и не смог насладиться в полной мере мастерством артистов балета и великолепной музыкой. Он занял место в самом укромном месте ложи, стараясь держать маску вежливой отстраненности на лице, когда его узнавали соседи по ложам или кто-то из публики в партере. Все эти бриллианты, шелка и бархат, мундиры с шитьем и орденами, улыбки, неподдельный восторг публики вызывали в нем целую волну отчуждения и негодования при мысли о том, что сейчас творилось в форте Цинна, в лагерях смерти, которые устраивали неугодным, или на фронте. Окружающее сейчас казалось спелым красивым плодом с румяными боками, внутри которого была лишь гниль. Снова вспомнилась тяжесть вальтера в руке отчего-то и желание избавиться от всего этого. Рихард попытался сосредоточиться на происходящем на сцене, но это привело к воспоминаниям (а может, к очередной придуманной картинке-обманке своего разума?) о том, как в огромной бальной зале Розенбурга порхала в свете луны воздушная фея, легко скользя по паркету.
Он столько хотел для нее сделать. Для него она была всем тем, ради чего можно было рисковать своей головой и своим будущим. Наверное, даже готов был бы, как в легендах и сказках, вырвать свое сердце и положить к ее ногам. Получил ли он хотя бы кусочек ее сердца в ответ? Правдой ли были те строки, которые она писала к нему после отъезда на фронт? Или они были очередной уловкой, чтобы и дальше пользоваться им ради своего блага?