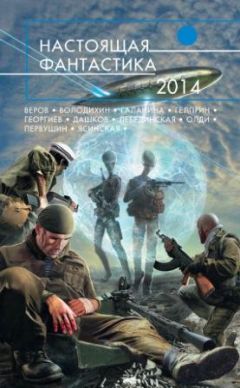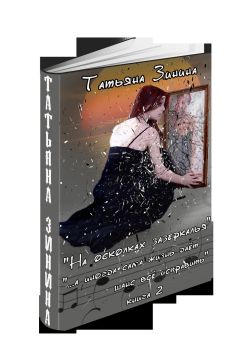На осколках разбитых надежд (СИ) - Струк Марина
Глава 52
Слушание по делу Рихарда состоялось спустя неделю после вручения обвинительного акта. За это время его совсем не донимали надзиратели, предоставив всем ссадинам на его лице затянуться. И даже ночами удалось выспаться впервые за время пребывания в этих стенах, собирая по крупицам силы для очередного испытания.
На переносице навсегда остался едва уловимый глазу шрам, выдавая, что тот был когда-то разбит и сломан, но в целом Рихард выглядел совсем достойно, как отметил про себя, когда взглянул на себя в зеркало перед выходом из камеры. Его недавно даже постригли, срезав отросшие за эти месяцы волосы, снова возвращая в его привычный вид. Рихард успел чисто побриться острой бритвой под пристальным взглядом надзирателя (не дай Бог, узник перережет себе вены или артерию на шее!), уложить пряди бриолином и вымыться холодной водой из тазика, прежде чем облачился в форменные брюки и китель без каких-либо знаков отличия. Облачаться в подобную форму было больно. Словно кто-то сорвал с него кожу вместе со всеми наградами и лычками. Но Рихард постарался не думать об этом больше, потому что лишние горькие мысли несли за собой привычную уже невыносимую головную боль.
Он еле успел опустить фигурку балерины по привычке в карман брюк, когда дверь камеры распахнулась, и надзиратели шагнули внутрь, чтобы нацепить на его щиколотки цепи, а запястья сковать наручниками. Настало время суда, который ждал его тут же, в стенах форта Цинна, в другом крыле, в который Рихарда провели через многочисленные решетчатые двери темными коридорами. Правда, перед самыми дверьми в зал заседания узы все же сняли, и Рихард шагнул в большую и залитую солнечным светом комнату почти свободным человеком.
Предстать предстояло почему-то не перед полным составом судей. Только двое чиновников юстиции в гражданском костюме и два офицера в форме вермахта сидели под портретом фюрера и огромными ярко-красными полотнищами флагов [161]. Место по центру, где должен быть главный судья, пустовало. Как позднее узнал Рихард от своего адвоката, представителем люфтваффе в сенате трибунала в эти несколько недель зимы изъявил желание быть сам рейхсмаршал Геринг. Присутствовать лично он не мог и решение принимал после прочтения стенограмм заседаний и по рекомендациям фон Хазе [162], который временно заменял из-за болезни неизменного председателя суда, адмирала Бастиана [163]. Увидеть среди судей фон Хазе, которого Рихард видел последний раз в сентябре на приеме на вилле в Далеме, было не меньшим потрясением, чем увидеть мать среди редких свидетелей процесса, которых пустили в зал. Казалось, только недавно они обсуждали с фон Хазе и с Генрихом Витгенштейном воздушную оборону Берлина, и вот генерал, чья жена Маргерита была одной из подруг баронессы, будет судить Рихарда за измену стране. Удивительный поворот судьбы!
Это будет занятный процесс, почему-то подумалось Рихарду, когда он занял место на скамье подсудимого перед трибуналом. Подумалось как-то буднично и равнодушно, словно его уже вовсе не интересовало, какой приговор будет вынесен в результате закрытого слушания. Наверное, потому что он знал, что все это всего лишь театральная постановка, ради неизменного финала, который ждет каждого севшего на эту скамью. И все, что ему оставалось сейчас — быть зрителем этой постановки, насладиться этим последним актом лицедейства в его жизни, ставшим вершиной другой так больно ранившей игры.
— Вы верно делали, что молчали на допросах, — сказал ему адвокат, высокий, почти с Рихарда ростом, худощавый мужчина с узкими губами и холодными светлыми глазами, во время их первой и единственной до этого момента встречи несколько дней назад. — Это очень поможет мне сейчас, когда мне позволили побороться с обвинителем и изменить приговор. Молчите и дальше, и возможно, я сумею заменить казнь заключением в тюрьме. Это самое лучшее, на что мы можем сейчас рассчитывать.
И Рихард молчал, произнося сначала лишь короткое и резкое «Нет!» в ответ на вопросы. В самом начале заседания, когда его спросили, признает ли он себя виновным, и дальше. Не потому, что он не чувствовал своей вины. А потому что никогда в жизни он бы не согласился с тем, что вменялось ему обвинением. Он всегда был верен своей стране, пусть уже и был ей заклеймен как шпион британцев, когда начался этот спектакль, где первым выступал обвинитель с глупыми, а порой даже оскорбительными вопросами и абсурдными умозаключениями.
Разве был иной ответ на эти вопросы, произнесенные со злой издевкой в желании уязвить самолюбие и унизить как можно больше? Только «Нет».
Ему задавали не только общие вопросы, касающиеся его службы в люфтваффе, делая упор на «поведении, противоречащим негласным правилам офицера рейха». Словно острым ножом вскрывалась вся его жизнь в самых мельчайших подробностях, которые сейчас извлекали перед судом и редкими свидетелями в зале и выворачивали наизнанку. Его поступки окрашивали другим цветом, марая истинные причины и часто в совершенное противоречие всякой логике. Его жизненные принципы выставляли слабостью, предательством и желанием помочь противнику. Особенно прошлись по службе в Крыму, где его поступки шли вразрез с «правилами поведения с местным населением, о котором предупреждается каждый солдат и офицер армии рейха», выходили за рамки «подчинения приказам фюрера» и даже мешали их выполнению в единичном случае.
— «19 марта 1943 года подсудимый возражал исполнению приказа командования, за что и был помещен под арест длительностью в сутки», — зачитал в своих бумагах обвинитель, и Рихард на мгновение прикрыл глаза, понимая тут же, о чем идет речь.
Эти нежеланные воспоминания с Востока все равно возвращались, проникая иглами под его кожу, неудивительно, что он в итоге вспомнил и это. Его пребывание на Востоке за несколько месяцев стало совершенно невыносимым. И только в небе Рихард ощущал себя прежним, который когда-то грезил службой армией и так страстно желал возрождения величия своей страны.
Гриша прибился к аэродрому еще до его приезда в Крым. Мальчика, слишком худенького и низкого для своих одиннадцати лет, сначала прогоняли от кухни, вокруг которой он крутился. Но после повара сжалились и приняли его неловкую помощь — наколоть дров и растопить печь, почистить овощи. Оставили при аэродроме, невзирая на запрет привлекать местное население для работ на его территории.
Рихард почему-то привязался к нему с первых же минут по прибытии, когда Гриша вдруг подхватил его саквояж прежде солдат и поволочил с трудом в один из домов, где Рихарду отвели комнату. И потом мальчик частенько появлялся на пороге его жилища — то принесет кружку горячего кофе, то почистит сапоги до блеска, то еще какое мелкое поручение выполнит. Он не гнал Гришу от себя, не потешался над ним, как обезьянкой, как это делали остальные летчики. Наоборот — настоятельно попросил спустя время, чтобы Грише не отвешивали всякий раз, когда мальчик проходил мимо, затрещин или пинков под зад забавы ради. Это всегда вызывало гомерический хохот у немцев, получавших удовольствие от комично недовольных рожиц мальчика, от того, как он падал коленями в грязь. Со стороны казалось, Гриша намеренно развлекает немцев, но Рихард видел в глубине его глаз скрытое от всех горе от унижения и отголосок слабой злости. Когда-то тень этих эмоций мелькала в глазах Лены, он помнил их ясно по первым дням их знакомства, а потому распознал без труда в первые же минуты.
Или может, Рихард просто понимал сейчас русских лучше из-за Лены? Черт знает точно, что с ним творилось в те месяцы! И он до сих пор не понимал, как осмелился открыто выступить против служб, когда после очередной диверсии со стороны местных на аэродром приехали гестаповцы, чтобы забрать Гришу. Как рассказали, он был сыном какого-то коммунистического активиста, который по слухам скрывался от гестапо где-то на острове, собрав партизанский отряд из таких же фанатиков, как он сам.