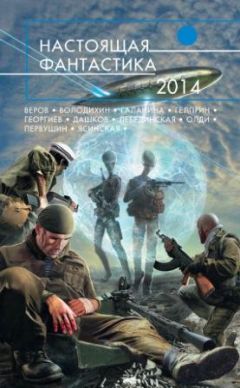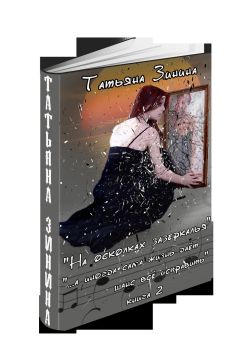На осколках разбитых надежд (СИ) - Струк Марина
Она околдовала его как дядю, эта русская фея. Он легко угадывал момент, когда она входила в комнату, даже если сидел спиной к двери. Он чувствовал сердцем перемену эмоций в ней и переживал эти эмоции как свои собственные. Он боялся за нее. Черт возьми, ни за кого он еще так не боялся в жизни, как за нее — эту хрупкую русскую с ее тонкими руками-веточками и большими глазищами. И так отчаянно хотел уберечь ее — от ненависти Биргит, от хладнокровной резкости мамы, от гестапо во время того идиотского побега и от нее самой со всеми страстями в ее душе, которые так легко было прочитать на лице. Она так отчаянно ненавидела, что рано или поздно эта ненависть сожрала бы ее без остатка и погубила, как это часто бывает. И впервые он захотел, чтобы она почувствовала что-то другое, зацепилась за что-то, что заставит ощутить вкус жизни. Захотел удержать на краю…
Именно тогда, в лето 1942 года, когда он уезжал из Розенбурга, он уже знал, что бороться бессмысленно. Он и себе самому признался, что неимоверно рад, что на фронт тем ранним утром провожала именно она, Лена. Пусть он так и не посмотрел ни разу в зеркало заднего вида на нее, стоящую на крыльце замка, как бы ни хотел того. Потому что ему уже не нужно было смотреть на нее, чтобы помнить. Ведь русская отпечаталась прямо на его сердце. Тонкая фигурка. Толстый узел из длинной русой косы. Пряди вдоль лица и у маленьких ушек. Аккуратный носик. Широко распахнутые глаза цвета безмятежного моря Атлантики, когда над ним высится чистое голубое небо, и ярко сияет солнце.
Поэтому ему совсем не нужно было вспоминать ее облик после травмы головы. Потому что Ленхен жила в его сердце с той самой поры, как он только ее увидел в парке Розенбурга.
Несмотря на то, что унтершарфюрерам (или одному из них) приплачивали за сносное нахождение в камере, «допросы с пристрастием» стали случаться не только по ночам. Один раз это даже случилось в душевой, когда группу с их этажа привели на помывку, и это особенно ударило по нему. Не физически, нет. Ударило морально.
Когда тебя обнаженного избивают на виду у остальных, многие из которых знают тебя в лицо по хроникам или журнальным и газетным очеркам или читали твое имя в Вермахтберихте, удовольствия это не приносит. И при этом ты ничего не можешь сделать. Потому что их четверо, а ты один. У тебя голые кулаки, а у них резиновые палки, которые одним ударом ломают ребра и нос.
— Каково тебе свалиться со своего небосклона к простым смертным? — плюнул тогда ему в разбитое лицо один из надзирателей, склонившись над ним. О, Рихард бы тогда рассказал ему, что он даже помыслить не может, каково это действительно падать с неба на землю в подбитой машине в бою с противником! Но физических сил больше не было. Даже произнести разбитым ртом несколько слов.
В ту ночь оба соседа Рихарда не давали ему спать, вызывая очередной приступ дичайшей мигрени, от которой в очередной раз хотелось разбить голову о каменную кладку стены. Молодой солдат, перепуганный увиденным избиением, плакал в голос, как младенец, а эсэсовец, выведенный из себя этим рыданием, бесновался в своей камере и орал в окно, чтобы тот заткнулся. Пока обоих не заставили замолчать надзиратели…
Рихард после того едва не сломался, к своему стыду. Когда в очередной раз перед ним положил гауптштумрфюрер лист бумаги и перо, по привычке начиная допрос с требования написать признание, он едва не сделал это и не написал о том, что виноват перед рейхом за то, что полюбил русскую шпионку. Виноват, что ошибся. Что не досмотрел. Слишком был откровенен с ней. Слишком верил ей и слишком любил ее.
Но в последний момент, когда перо коснулось бумаги, Рихард понял, что не сможет написать имя Ленхен и вообще рассказать их историю на бумаге. Не здесь и не для этих людей. Кто-то сказал бы, что она была мертва, и ей уже было все равно. Но для Рихарда это было невыносимо — произносить ее имя здесь, в этих стенах, где ее будут склонять на разные лады. Где никто не поймет того, что произошло когда-то. Он не хотел, чтобы то единственное светлое, которое у него сейчас осталось, вывернули наизнанку и замарали. Достаточно было того, что все это и так было покалечено с самого начала, как Рихард понял со временем.
Он помнил, что говорили бауэры о выжженной земле. Не сразу она принимает семя, из которого может прорасти новый урожай. Не всегда получается вырастить на ней культуру и приходится ждать не один год, пока она восстановит все нужные для этого слои.
У него не было этого времени. И у Ленхен не было этого времени. Как не было иного места, кроме Швейцарии, где еще можно было найти клочок земли для посадки саженца их совместного будущего. Нигде больше, кроме этого небольшого куска земли, где не было войны. Он вспомнил, как тщательно обдумывал этот план, возвращаясь с неба на землю Остланда. Нельзя было просто укрыть ее где-то на территории Германии, даже в горах Альп или в любимом Орт-ауф-Заале. Только в Швейцарии, где не было выжженной войной земли. Где могли зажить его раны от острых игл, которые одну за другой загонял ему под кожу каждый день в России. Он знал, что всякое прикосновение к Лене будет давить на эти иглы, а они напоминать обо всем. Но возможно, в Швейцарии со временем они уйдут глубже под кожу, и боль не будет такой острой. И только при условии, что она никогда не узнает. Потому что она никогда не поймет и не простит. Этого нельзя простить. Никогда.
Рихард любил вспоминать моменты из Орт-ауф-Заале и в то же время страшился их. Потому что вслед за этими мгновениями, которые он старательно воскрешал — от праздника Светлой недели до целого дня, проведенного рядом с Леной, — медленно возникали в голове другие, мучившие его еще тогда, в усадьбе в горах.
Он торопился обвенчаться с ней не только потому, что хотел защитить ее своим именем и положением. Он хотел связать ее с собой до того момента, когда она снова станет ненавидеть его. Как русская должна ненавидеть немца.
Все было связано с ней. Даже скрытое прошлое, которое он не хотел воскрешать интуитивно, ориентируясь на тех эмоциях, что помнил по дням в Орт-ауф-Заале. Прошлое, которое он бы с удовольствием вычеркнул из своей жизни. Потому что оно разрушало все. И отравляло даже те светлые дни, когда он смотрел на нее на фоне лазури вод Заале и изумруда лесов Тюрингии. Наполняло горечью сладость моментов, когда она говорила ему о своей любви. Только обнимая ее, только целуя ее губы или любя ее, погружаясь в нее, растворяясь в ней, он забывал обо всем. Только Лена могла быть лекарством, способным исцелить его душу. Хотя бы на то время, пока не узнает обо всем и будет с ним…
Не вспоминать Остланд все равно было бы невозможно. Часть прошлого открывалась ему через следователя, который с каким-то странным наслаждением разбирал эти «интересные случаи», перечитывая при Рихарде очередной рапорт во время какого-нибудь допроса, которые возобновились спустя пару недель. Как сообщил ему во время игры в шахматы тюремный врач, эта задержка была связана с отъездом гауптштурмфюрера, связанным с делом фон Ренбек.
Рихард всегда боялся, что среди этих рапортов вдруг окажется один за подписью Лютца, такое предательство Рихард сложно перенес бы в этих стенах. Но пока все они были в большинстве своем только от Малыша Ралли, молодого фельдфебеля с головой и сердцем убежденного нациста, с которым у Рихарда не заладились отношения с самого начала. Даже его имя подсказал следователь, память никак не выпускала то на свет — Рудольф Беме.
— Он делает успехи, этот славный малый! — хвалил следователь автора аж пяти рапортов, как выяснилось со временем. — Недавно получил Железный крест в золоте. Эдак он и вас переплюнет когда-нибудь, фон Ренбек. Молодежь теснит старость!
Рихард только усмехнулся в ответ. У него самого была эта здоровенная звезда со свастикой, «Партийный значок для близоруких», как называли между собой его сослуживцы во Франции. Награда была такой помпезной, что он лично не любил ее и надевал только при визитах в штаб или на официальные мероприятия. Но он был уверен, что Беме относился к этому помпезному знаку совсем по-другому.