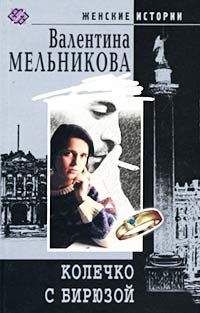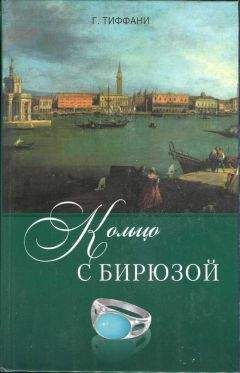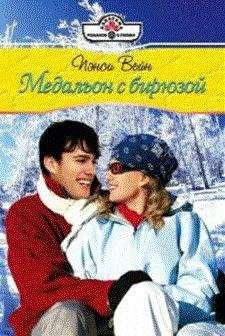Перстенёк с бирюзой (СИ) - Шубникова Лариса
Норов хоть и в злобе был, и отчаянья хлебнул, а все ж не сдержался и усмехнулся:
– Как порушить то, чего и не было? А что до кудрей и курносости, так оно в тебе и нравится. Рядом со мной тебе плакать не придется, а болтать вздумаешь, зови, послушаю. Настасья, ты отговаривать меня принялась? – голову к плечу склонил и прищурился. – Напрасно времени не трать.
Боярышня и вовсе опечалилась, опустила голову низехонько:
– Что ж, твоя воля, – поклонилась поясно. – Благодарствуй за добрые слова и посул обождать.
Боярышня ступила в сени, да девку кликнула, какая уж проснулась и топталась поодаль. Велела со стола убрать и подать боярину, что укажет.
Норов так и остался стоять в гридне, глядя на стол, что собрала для него Настя: ложки валяются, пирог недоеденный засыхает, каша остыла.
– Настёна, а ведь правая ты… – прошептал. – Сей миг и порушила жизнь мою нелюбовью. Так противен тебе? Да чем же, кудрявая?
От автора:
Шапка лета - середина лета
Глава 15
– Вадимка, ты чего-то сам не свой, – писарь изводил Норова расспросами. – Стряслось чего? Иль так затосковал?
– Дед, ты чего делал? Вот и делай! – вызверился боярин. – Не донимай.
– Злыдень ты, – отбрехивался дедок. – Чего так скоро обернулся? Сидел бы в Гольянове, брюхо чесал. Без тебя тишь да гладь, да божья благодать. Нет, воротился и все порушил.
– Чего я тебе порушил, хрыч старый? Спать не даю? Так иди и спи сколь хочется! – Норов вскочил с лавки и заметался по гридне.
– О как…, – Никеша почесал писалом висок. – Кто это тебя разобидел?
– Ах ты… – Норов аж слова растерял, – коряга старая! Вещун недоделанный! Никто не обидел, а кто б решился, уж не дышал! Ясно тебе?!
Писарь рот открыл, ресницами белесыми захлопал:
– Батюшки святы… – перекрестился. – Вадимушка, родненький, ты не заболел? Сколь тебя знаю, так-то ты не вопил.
Норов кулаки сжал до хруста, но унялся:
– Не серчай, Никеша. Уж больно не ко времени ты разговорился. Ты давай, обскажи, что тут без меня творилось? – Вадим головой потряс, стараясь выкинуть из головы окаянную боярышню.
– Так эта…, – писарь наново принялся чесаться, – второго дня боярыня Ульяна выперла с подворья Дарью. Приметила, что та поворовывала. Перед тем Васютка Рожковых угодил ногой в яму и кость переломил. Боярышня Настасья привела во двор пса сатанинского. Ой, потеха была! Ульяна Андревна ругалась, а боярышня за пса горой стояла. Так и переупрямила тётку-то! Теперича пёс по двору бегает, сторож справный получился. Вадимка, кур-то не он душил, а лисица. Так серый ее загрыз и тётке Ульяне под ноги свалил. Ой, крику было! Но боярыня велела пса приветить и каши ему носить.
Норов усмехнулся нехотя:
– Настасья Петровна? Супротив тётки? Ты часом не перепутал, дед?
– Как на духу, – писарь улыбнулся. – Настасья Петровна хоть и смирная, покладистая, а все ж кровь в ней бо ярая.
Тут Вадим снова озлился:
– Никеша, так что там еще кроме пса? Иного ничего?
– Лексей Журов в зернь проигрался, едва порты последние не скинул. Вдругоряд сел, отыграть хотел, а не сдюжил. Долг вернуть нечем, а Митрий Кузин велит отдавать. Подрались, ироды, аж до кровищи. А у Лексея-то не одна беда. Помнишь Глашу Гуляевых? Так обрюхатил, гаденыш, а теперь морду воротит. Девка-то едва в петлю не сунулась от позорища, захворала и дитя скинула до срока. Отец ее Лёхе сопатку раскровенил и велел помолвиться.
– А тот? – Норов брови насупил.
– А что тот? Изворачивается, как может. Но чую, от венца отмахается, а от долгов не увернется. Разве что сбежит из Порубежного? Да на что бежать-то? Деньги нет, а запросто так нигде не осядешь.
– С чего взял, что отмахается?
– Как ни крути, а виноватая она. С Лёхи, как с гуся вода, а ей грех замаливать. Да и оговорить ее теперь проще простого, никому не ведомо с кем она до Алексея на лавке валялась.
– Вот что, дед, со мной пойдешь. Журов из моей сотни, а стало быть, моя забота. Чего расселся? Собирайся.
– Кудай-то? – дед с кряхтением поднялся с лавки и потянулся за кафтаном.
– К Гуляевым для начала.
– Ты что?! Я Гуляеву обещался, что никому не выдам! Пожалей девку, ведь слухи поползут, сживут ее со света бабы порубежненские. Иль парни глумиться начнут, – писарь брови свел, глядел строго.
Норов призадумался и кивнул, мол, твоя правда. А потом уж и высказал:
– Алексея ко мне. Вслед за ним боярыню Ульяну. Ну чего встал? Иди, зови.
– Разбежался, – зловредный дедок показал хозяину кукиш. – Сам иди. У меня вон ноги не ходют.
– Старый ты пень, – Вадим дивился писаревой наглости. – Кыш отсюда, и чтоб на глаза не попадался.
– Ты чего, Вадим? Как я пойду? Самое интересное упущу! – Никеша упирался.
– Не понял? Так я тебе еще разок скажу. Ступай отсюда! – Вадим больше пугал, чем сердился. – К лавке прилип? Так я сковырну, – и протянул руку, притворяясь, что хочет ухватить дедка за шиворот.
– Убив-а-а-а-ю-ю-т! – заверещал напуганный писарь. – Вадимушка, не души! Сей миг боярыню к тебе приведу! А Лёха в дозоре нынче, утресь явится!
– Чего ж сразу не сказал, болячка? Иди и зови Ульяну. Сам носа сюда не суй!
– Бегу, – писарь проворно выскочил в сени, затопотал сапогами по полу, да дробно так, споро.
Вадим усмехнулся, глядя вослед хитрому дедку, да и отошел к окошку, распахнутому по теплу. На дворе солнечно, свежо, а в душе – пакостно. И вроде все на месте: ратные на заставах, дом цел, в Порубежном тишина, но все не так и не то.
Норов чуял, что тоска из-за кудрявой, но упирался и признаваться в том не желал. Все спорил сам с собой, кулаки сжимал, да злился на упрямство девичье. Ведь люба она ему, правду сказал, а окаянная ни ответа, ни привета. И посулил все, что сам имел, и горы свернуть обещался, так чего ж холодна, чего ж не привечает?
– Стерпится, слюбится, – сам себе и высказал то, что слыхал не единожды, но сердце шептало иное и горькое.
Беда в том, что Норов о женитьбе и не помышлял, пока не появилась в хоромах Настасья. Потому и знать не знал, что на уме у девиц и какого лешего им надо. Иной посули плат новый, так она и ласковая, другой подай серебрушку, а третья ждет бусы звонкие. Вадим жадным отродясь не был, с того и не знал, каково это, когда дают отворот поворот. Да и не ждал многого от недолгих ночных встреч, чай, не жену выбирал.
– Чего ж тебе, Настёна? Нарядов? Злата? – и сам себе перечил: – Нет, не таковская. Кота тебе поймать? Попушистее и поблохастее? Жалеть его станешь…, – едва не засмеялся. – Вот нагородил, дурень. Ладно, женой станет, а там полюбит.
Вроде и уговорил себя, а все ж обида точила, да так сильно, хоть вой. А как иначе? Любовь – песня, и горько петь ее глухому.
– Вадим Алексеич, звал? – тётка Ульяна поскреблась в дверь.
– Входи, боярыня, садись, – указал рукой на лавку. – Дело у меня к тебе тайное.
– Стряслось чего? – Ульяна смотрела внимательно.
– Не с нами, не опасайся. Семейство есть в Порубежном, дорого оно мне. Старшой Гуляев меня на своем хребте из рати вытащил, едва руки не лишился, а донёс. Жена его, Варвара, меня выхаживала, – умолк на малое время, но опять заговорил: – Дочь у них одна, Глаша. Так вот с ней стряслось. Сразу говорю, не знает никто, и хочу, чтоб так оно и осталось впредь.
– Поняла, дело обычное, – боярыня кивнула. – Куда ее, брюхатую, девать? Думки-то есть?
– Дитя скинула, – Норов поморщился: не любил бабьих дел.
– Уже полдела, – утерла рот платочком. – Не смотри так, я не со зла. Жизнь такая.
– Думка есть, но сам пойти в дом и говорить с девицей не смогу. Глашка завидные кружева плетет, бабы наши хвалят. Сыщи ей дом в княжьем городище, чтоб в обучение отдать. Чай, знакомцев у тебя там немало. Деньгой девку не обижу. Тут ей никак нельзя, в петлю лезет. За отца ее не отвечу, обидчику голову отсечет, если не женится.
– Так он тебе и женился, – Ульяна лоб наморщила. – Есть у меня думка получше. И кружевницей станет, и замуж выскочит, коли дурой не будет. Ученая уже, не промахнется. Только повидать мне ее надобно, не хочу отправлять в дом к хорошему мужику абы кого.