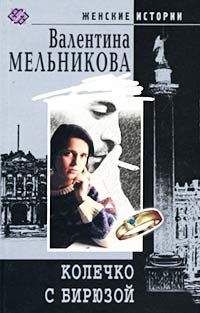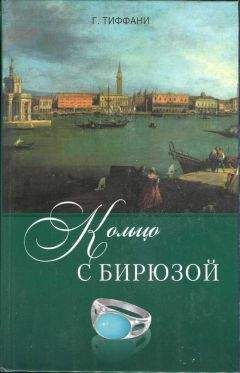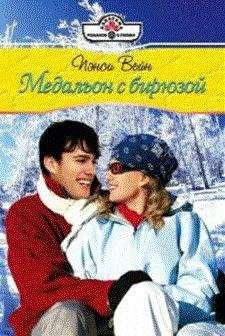Перстенёк с бирюзой (СИ) - Шубникова Лариса
– Постой, – ухватил за локоть и к себе потянул. – Ты тут ночевала?
Настя залилась румянцем, голову опустила, но ответила как на духу:
– Тесно в ложнице, – заглянула в глаза Норову. – А окошко открывать боязно.
Вадим глядел странно, на миг Настасье показалось, что улыбнется, а потом почудилось, что в глазах его пламень горит, да страшный, неуемный.
Хотела отступить, а Норов не пустил, держал крепенько, но больно не делал.
– Кого боишься? Ты в моем дому, за воротами ратные и днем, и ночью.
Настя вздрогнула, наново голову опустила, но не смолчала:
– Боярин, с дороги ты. Сей миг прикажу умыться и чистого тебе дать. Баню топить или поутричаешь? Что захочешь принесу. Горячего на стол соберу, – руку-то дергала, мол, пусти.
Норов отпустил, но встал в дверях – не обойти, не проскользнуть:
– Не буди, – улыбнулся едва приметно. – Меду бы теплого, да хлеба кус. Принесешь? Вместе и поутричаем. Ты прости, боярышня, пряник тебе не привез. Не растут они в лесу, иль это я не сыскал, – и хохотнул.
Настя вздохнула легче, кинула в ответ робкую улыбку, а потом и вовсе засмеялась:
– Я мигом обернусь! – подол подобрала, хотела уж бежать, но задержалась. – Тётенька Ульяна в ложне твоей все прибрала. Чистое в сундуке большом найду и рушник подам.
– Неси во двор на задки. – Вадим скинул доспех, взялся за опояску. – Там буду.
Настя кивнула и бегом в боярскую ложню. Там собрала чистого и метнулась проворно во двор. На крыльце огляделась и, не приметив Алексея, бросилась за хоромы. У большой бочки увидала Норова, тот умывался студеной водой, фыркал, что пёс.
Настасья повеселела, только вот не разумела с чего. То ли потому, что боярин невредимым вернулся, то ли потому, что о прянике для нее не позабыл. Видно с такой своей радости не сразу и поняла, что глядит на раздетого мужа, и глаз, бесстыдница, не отводит.
Ойкнула тихонько и повернулась спиной к Норову, а самой ух как интересно поглядеть! Только и успела заметить крепкую спину, большие руки и посеченную грудь. С того брови изогнула печально, пожалела бывалого воя.
– Боярышня, ты не уснула часом? – бодрый, но тихий голос Норова совсем близко. – Рубаху-то давай, иль мне телешом* бегать?
Настя повернулась, зажмурилась и протянула наугад и рушник, и одежки. Мига не прошло, как услыхала смех Норова:
– Вот не знал, что нос у тебя курносый, видно, плохо смотрел. Настя, чего ж сморщилась, как дед Ефим? Вылитый он, разве что без плеши. Боярышня, все спросить хотел, ты кудри свои конским гребнем чешешь иль простым, девичьим? – смеялся.
– А мне отец Илларион гребешок подарил. Крепкий он, не ломается. До того тётенька мне сулилась купить конский, чтоб простые не переводить напрасно, – Настя улыбнулась и, открыв глаза, оглядела умытого Норова в чистой рубахе.
– Чеши лучше, береги косу, – Вадим подошел совсем близко. – Красивая.
И снова Настя испугалась: боярин жёг чудным взглядом и тем тревожил.
– Потешаешься? – смотрела жалобно. – Я ж не виновата, что такая уродилась, – потянулась пригладить непокорные космы.
– Хорошо, что такая уродилась, – теперь и Норов протянул руку, и заправил ей завиток за ушко. – С чего бы мне потешаться? Говорю как есть. Красивая.
И вроде не сказал ничего, а Настасью в жар кинуло, румянцем опалило:
– Сейчас снеди принесу, – отвернулась и пошла поскорее в дом.
– Куда ты? – боярин не отставал, шел за ней и посмеивался. – Не угнаться за тобой. Настя, да погоди, – хохотал.
– Вадим Алексеич, сам просил не будить, а смеешься на всю округу, – чуть рассердилась, разумея, что такое с ней впервой, чтоб на старшего голос повышать. – Сейчас тётенька проснется, ругать меня станет.
– А тебя за что? – боярин поравнялся в Настей, и на приступки шагнули уже бок о бок.
– Как за что? Приветила тебя плохо, девок не кликнула и еще потому, что дозволила водой из бочки умываться. Вот и рушник у тебя не забрала, – потянулась взять.
– Не знал, что девичья наука такая тяжкая, – рушник спрятал за спину. – Отдам, если скажешь, о чем думала, когда я в гридню зашел.
– Я? – Настя затрепыхалась. – Ни о чем не думала, – тянулась взять рушник. – Боярин, отдай.
– Лукавишь, – придержал боярышню за плечо. – Ты себя не видала. Задумчивая, печальная. Обидел кто?
– Нет, – Настя взглянула на Вадима. – Никто не обидел.
– Не верю, – склонился к ней, едва бородой не щекотал. – Говорить не хочешь? Добро, стерплю. Но скажу так, если вызнаю, расквитаюсь с иродом. В обиду тебя не дам. Разумела?
Настя замерла на миг, а уж потом увидала в глазах Норова тепло и свет чудный, ясный. Поверила ему сразу и улыбнулась сердечно:
– Дай тебе бог, Вадим Алексеич, – по доброте своей, не задумавшись, подняла руку и пригладила ворот боярской рубахи. – Он и даст, как не дать. Добрей тебя мало сыщется.
Потом только и опомнилась, когда боярин положил широкую свою ладонь на Настину руку и прижал ее к груди:
– Не такой уж и добрый. Для себя стараюсь, а стало быть, корысть во мне, – сказал непонятное, да взглядом обжёг.
Настя чуть попятилась, потянула руку из горячих пальцев Норова:
– Полина вечор пироги пекла постные. Так я подам? – отступила на шаг.
– Пироги, говоришь? – чуть нахмурился. – Подай. И сама с пирогами приходи, одному утричать тоскливо, – накинул на ее плечо рушник.
– Я мигом! – и бросилась в сени.
От автора:
Канопка - глиняный сосуд, выполняющий функции кружки
Телешом - голым
Глава 14
– О чем думала, Настя? Что в голове твоей кудрявой сотворилось? Взор такой откуда? – Норов метался по гридне, ждал боярышню нетерпеливо.
Остановился у оконца, не снёс покоя, да снова принялся бродить. Через миг уселся на лавку, положил руки крепкие на стол и задумался.
Такой боярышни он еще не видал: взгляд и горький, и сладкий, лик нежный, светлый, а меж бровей складка горестная. Хуже того – увиделась в ней не девчонка юная, но девица, да такая, что глаз не отвести. Плавность в Насте появилась, нежность теплая, а кудри уж не смотрелись потешными, а самыми что ни на есть шелковыми.
– Что стряслось с тобой, птичка-невеличка? – шептал Норов. – Обидел кто? Нет... – сам с собой разговор вёл, – от обиды красы не прибывает.
Вскочил, снова уселся и сей миг вызверился, себя укорил:
– Как баба, право слово! – крикнул, а потом услыхал шаги торопливые.
Через малое время в гридню вошла Настя: в руках кувшин, горшок с кашей, исходящей паром, а на плече долгий чистый рушник.
– Тётенька Поля проснулась и каши запарила, – суетилась, расстилала на столе белую холстинку. – Садись, Вадим Алексеич, сейчас и пирогов принесу, – положила ложки и бросилась вон.
Вадим, себя не узнавая, улыбнулся, забыл давешнюю злость, будто и не было ее никогда. Глядел, дурилка, вослед Настасье и если б не уряд, пошел за ней. Ждать-то муторно, несладко.
Да боярышня долго не возилась и вскоре явилась с пирогами, караваем и канопками:
– Изволь, – подала нож, подвинула боярину хлеба, а сама встала рядом со столом, как и положено хозяйке.
Норов указал боярышне на лавку:
– Садись, Настя, в ногах правды нет, – а потом и сам присел, взялся за каравай. – Горбушку? Плесни медка, вода в бочке студеная, по сию пору щеки горят, согреюсь.
– И каши, – Настасья раскраснелась, потянулась к горшку. – Тебе с горкой, без?
– Стои, каши из горшка не выкладывай. Самая вкуснота, когда она с дымком в посудине, – Вадим будто проголодался сильнее. – Ложку бери и черпай. Да что смотришь? Бери, сказал.
Она и не перечила, взяла ложку, зажала в кулачишке, как дите малое, и потянулась за варевом, а когда ухватила, дуть принялась на горячую: щеки румяные, губы яркие, очи блескучие. Норов глаз не сводил с Насти, примечал и шею нежную, и завиток мягкий над ушком, и изгиб бровей – тонких и темных.
– А ты? – Настя замерла с ложкой у рта. – Чего ж не ешь? Может, иного чего принести? Так я мигом! – потянулась с лавки.