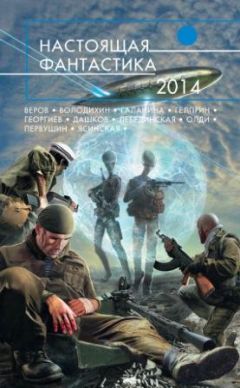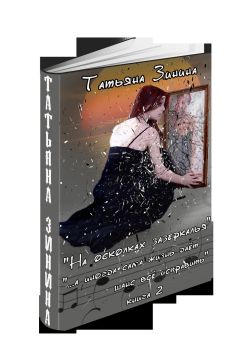На осколках разбитых надежд (СИ) - Струк Марина
— Возьмите меня с собой, — она запнулась, не зная, как обратиться к нему, после недавнего злого выпада «Обувщика». — Возьмите меня отсюда, прошу вас. Я знаю, как идти от Дрездена до границы с Польшей, до Герлица. А там дальше через Вроцлав и Люблин до наших. Товарищ, вчера взяли Киев! Наши взяли Киев! [133]
У Лены вдруг сдавило в груди от нахлынувших эмоций, грозя приближением знакомой сухой истерики. Из-за того, что наконец-то говорила на русском языке со своими, родными. Из-за освобождения Киева, в котором видела близкую долгожданную свободу и для Минска. Из-за успехов Красной Армии, которая победоносно двигалась к прежним границам. И из-за обиды и горечи от фразы, брошенной сквозь зубы «Обувщиком», вызвавшую в ней прежние свои сомнения.
— Откуда знаешь? — схватил ее больно за руку «Силач», невысокий, но крепкий грузин, и этой болью заставил отступить истерику и прийти в себя.
— Я слушаю Москву, — произнесла Лена, и все пленные посмотрели на нее как-то иначе при таком родном имени столицы их общей страны.
— А Ленинград? Что с Ленинградом? — вдруг спросил «Обувщик» дрогнувшим из-за волнения голосом, в мгновение ока растеряв свою прежнюю браваду и злость. Но Лена не знала ничего про Ленинград. Про него «Свободная Германия» молчала в своих радиопередачах. Как и про Брянск и Одессу [134], откуда родом оказались до того момента молчавшие пленные. Она уже думала, не сказать ли ей о том, что не обо всех городах сообщают, потому все может быть, но ее уже позвал тихо Людо. Лена с тревогой отметила, что тот при скудном свете луны стал собирать в коробку и бинты, и флаконы, которые до того вынул «Командир». Словно он не собирался ничего делать. Это же заметили также пленные, и атмосфера в сарае снова стала напряженной и злой.
— Пожалуйста, Людо, — прошептала умоляюще Лена. — Помоги ему.
— Я не могу, — ответил Гизбрехт, старательно закрывая крышку коробки и не глядя при этом ни на кого. Лена заметила, что его ладони дрожали при этом.
— Почему? Почему не можешь? — она не озвучила причину, которая вспыхнула в голове огнем, чтобы не провоцировать пленных. Но эта причина ясно угадывалась между слов.
Потому что он — «унтерменш», «недочеловек», не заслуживающий твоей помощи?
— Потому что я — не Господь Бог! — обрубил резко и зло Гизбрехт и потянулся к ружью, но то успел прежде вдруг схватить «Силач» и направить на немца. Людо даже не дрогнул при этом, только чуть опустил веки на миг, а потом заявил твердо испуганной происходящим Лене, глядя при этом прямо в глаза Командиру, стоявшему рядом с ней. — Даже если этот русский меня убьет, это ничего не изменит. Только их всех погубит. Их мальчик умирает. У него… — он запнулся, посмотрел на Лену и подобрал более легкое слово на немецком языке, заменяя научный термин. — У него все внутри разбито. Кровь течет не снаружи, а внутри. Он уже не может идти. Через час-два он потеряет сознание. Еще три часа — он умрет. Лена, почему ты молчишь? Почему не переводишь? Переводи им, Лена, у них совсем нет времени. Им нужно избавить мальчика от мучений, а себя от груза.
Наверное, «Командир» понял все по тому, как резко прервалось у нее дыхание, мешая ей произнести все из этих жестоких в своей правоте слов Людо. Но осознал страшный смысл невысказанных слов не только он. Потому что «Силач» вдруг размахнулся и с силой ударил прикладом немца прямо в лицо, сбивая его с ног. Лена инстинктивно качнулась в сторону Гизбрехта, сама не понимая, чем сможет помочь ему сейчас, но была остановлена одним из пленных, поймавшим ее за локти и удержавшим на месте. При этом она четко понимала одно — что бы ни случилось, она не может выдать криком беглецов, потому закусила губу больно, ощущая, как медленно рот наполняется металлическим привкусом крови.
— Отставить! — коротко, но хлестко произнес «Командир», когда «Силач» занес приклад над лежащим на полу Людо для второго удара. А потом уже мягче. — Отставить. Мы — не они.
— Он — фриц! — прошипел в ответ тот с рокочущей яростью в голосе.
— Он — безоружный старик, — проговорил «Командир», забирая ружье из рук «Силача» и передавая то одному из пленных. Потом он опустился на корточки к недвижно лежащему немцу и проверил пульс на его шее. Кивнул пленному, держащему Лену за локти, и когда тот отпустил ее, дрожащую от холода и волнения, обратился уже к ней. — Твой немец жив, Катя. А теперь повтори мне все, что он сказал про Поэта, только каждое слово и без лишних эмоций. И расскажи, что знаешь о пути на восток, к нашим.
Он похлопал ладонью по земле рядом собой, приглашая Лену подойти ближе, и она подчинилась. Присела рядом с ним на земляной пол, обхватив руками плечи, чтобы согреться и обуздать эмоции, раздирающие ее сейчас на части. Выслушав про состояние молодого товарища, «Командир» даже не дрогнул лицом, словно уже знал то, что определил Гизбрехт. А вот во время короткого рассказа про путь от Дрездена до западных границ Союза забросал ее вопросами. Особенно после того, как она упомянула, что поляки могут быть не рады такому проходу через их земли.
Вопреки совету Людо и здравому смыслу русские собрались уходить, унося с собой своего умирающего товарища. Немцу никогда было не понять неразумности этого поступка, но Лена с огромным облегчением и без удивления встретила такое решение Командира, когда он объявил об этом после короткого совещания пленных в сарае. Им нужно было торопиться — в любой момент в лагере могли обнаружить побег, а их разделяли всего шесть километров.
Людвиг все еще не пришел в себя после удара «Силача», и русские считали его своим заложником во время того, как Лена спешно собирала в доме в тканевый рюкзак банки консервов и «кирпич» хлеба. К счастью для нее, Кристль вопросов не задавала, хотя прочитала в тревожном молчании Лены и в торопливости движений, что что-то произошло. Единственное, о чем она спросила, угрожает ли опасность ее мужу, и когда девушка заверила, что Людо жив, поставила стул в коридоре у входной двери и предупредила:
— Я не знаю, что происходит. Но чувствую, что что-то не так. И если через полчаса вас не будет в доме, я обращусь в полицию.
Лена не стала ничего говорить в ответ на это, только кивнула согласно, боясь, что если заговорит, снова сорвется в истерику, настолько были сейчас напряжены нервы. Перед тем, как выйти из дома, она после коротких раздумий стянула с крючков вешалки штормовку, которую Людо носил во время работы в огороде на заднем дворе. Но «Командир» отверг куртку из толстой ткани сразу же — вещи немца были аккуратно помечены нашивками с фамилией и инициалами. То же самое было вырезано и на прикладе ружья.
— Я не могу привести сюда гестапо. А срезать метку с куртки или сцарапывать ее нет времени, — произнес он и, заметив встревоженный взгляд Лены, обращенный к немцу, поспешил успокоить ее. — Он очнется с минуту на минуту. Возможно, будет сотрясение, но жить определенно будет. Не переживай.
Он замолчал и показал знаком товарищам, что пора собираться. Настало время уходить. Расставание вдруг стало таким осязаемым сейчас, что у Лены перехватило в горле. Попрощаться с русскими для нее означало снова остаться здесь в полном одиночестве, среди врагов. Снова говорить и думать на немецком языке, притворяться, что разделяет их мысли и убеждения, быть не собой. Наверное, поэтому она сорвалась — схватила за руки «Командира», чем заставила всех невольно напрячься.
— Возьмите меня с собой!
— Нет! — резко и твердо заявил «Командир». Он выпростал руки из ее хватки, а потом сам взял ее холодные ладони в свои большие и мозолистые, покрытые ссадинами и мелкими царапинами. — У меня нет времени объяснять тебе очевидное, потому послушай внимательно. Я не могу рисковать тобой, потому не возьму тебя с нами. Ты сказала, что наши освободили Киев. Это значит, что скоро — через месяц, два или три — наши будут уже здесь. Тебе нужно просто дождаться. Всего чуть-чуть. Мы вернемся, я обещаю тебе.