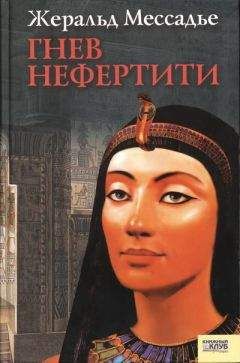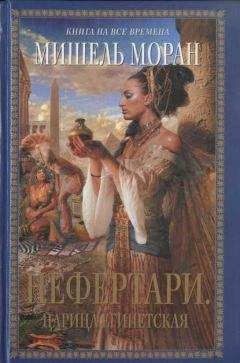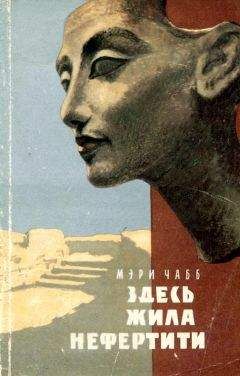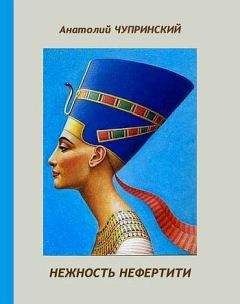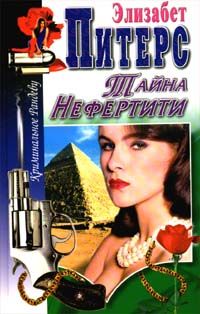Мишель Моран - Нефертити
Аменхотеп снова посмотрел на меня.
— Можешь идти, — небрежно бросил он. — У нас с царицей дела.
Нефертити протянула было руку — остановить меня, но я строго покачала головой и проскользнула мимо нее к двери. На глаза у меня навернулись слезы, и я смахнула их тыльной стороной ладони. Я солгала царю Египта, наивысшему представителю Амона в этой земле. «Маат будет стыдно за меня», — прошептала я вслух, но среди колонн коридоров меня было некому услышать.
Я подумала было, не пойти ли к матери — но она скажет, что я поступила правильно. Я ушла в сад и уселась на самой дальней каменной скамье. Боги накажут меня за мою ложь. Маат захочет возмездия.
— Нечасто сестра царицы гуляет в саду одна.
Это оказался военачальник Нахтмин.
Я смахнула слезы.
— Если фараон увидит нас вместе, он будет недоволен, — сказала я строго, пытаясь взять себя в руки.
— Неважно. Новый фараон скоро уедет в Мемфис.
Я бросила на него быстрый взгляд.
— А ты не поедешь?
— Поедут только те, кто сам решит ехать. Большая часть войска останется в Фивах. — Военачальник уселся рядом, не спрашивая у меня дозволения. — Так почему же ты сидишь среди ив одна?
Мои глаза снова увлажнились. Мне было стыдно перед богами.
— Ну так что? Кто-то разбил твое сердце? — настойчиво спросил Нахтмин. — Хочешь, я изгоню его?
Я невольно рассмеялась.
— Меня не интересуют юноши, — сказала я.
Мы немного помолчали.
— Так почему же все-таки ты плакала?
— Я солгала, — прошептала я.
Нахтмин посмотрел на меня, и уголки его губ поползли вверх.
— И это все?
— Может, для тебя в этом нет ничего особенного, но для меня это очень важно. Я никогда не лгала.
— Никогда? Ни про разбитую посуду, ни про ожерелье, которое кто-то потерял, а ты нашла?
— Нет. Никогда с тех пор, как я сделалась достаточно взрослой, чтобы понимать законы Маат.
Военачальник ничего не ответил, и я поняла, что кажусь ему, человеку, повидавшему войну и кровопролитие, сущим ребенком.
— Это неважно, — прошептала я.
— Это важно, — серьезно возразил он. — Ты ценишь правду. Ты солгала лишь сейчас.
Я промолчала.
— Ничего страшного, твоя тайна умрет вместе со мной.
Я вскочила, рассердившись.
— Зря я стала с тобой разговаривать!
— Ты думаешь, что я перестану тебя уважать из-за твоей лжи? — Он добродушно рассмеялся. — Египетский двор построен на лжи. Ты увидишь это сама в Мемфисе.
— Тогда я закрою глаза, — отозвалась я с ребяческим упрямством.
— И подвергнешь себя опасности. Лучше держи их открытыми, госпожа моя. От этого зависит судьба твоего отца.
— Откуда ты знаешь, от чего зависит судьба моего отца?
— Ну, если ты не сохранишь способность рассуждать здраво, то кто же это будет? Твоя красавица-сестра? Фараон Аменхотеп Младший? Они будут слишком заняты постройкой храмов, — ответил Нахтмин. — А может, — изменнически произнес он, — даже борьбой со жречеством, чтобы завладеть его богатствами.
Должно быть, вид у меня был ошеломленный, потому что военачальник поинтересовался:
— Ты что, вправду считаешь, что никто, кроме твоей семьи, этого не замечает? От молодого фараона лучше держаться подальше. Если жрецы Амона падут, та же судьба ждет и многих других богатых людей, — предсказал он.
— Моя сестра не имеет с этим ничего общего, — твердо произнесла я и зашагала обратно ко дворцу.
Мне не понравилось, как Нахтмин припутал мою семью к замыслам Аменхотепа. Но он пошел за мною следом, приноравливаясь к моей походке.
— Госпожа моя, я тебя обидел?
— Да, обидел.
— Извини. Впредь я буду осторожнее. В конце концов, ты же будешь одной из самых опасных женщин при дворе.
Я остановилась.
— Посвященной в тайны, ради которых визири и жрецы будут щедро платить шпионам, лишь бы разузнать их.
— Я не понимаю, о чем ты говоришь.
— Об информации, госпожа Мутноджмет, — ответил Нахтмин и зашагал в сторону конюшен.
— А что, по-твоему, способна сделать информация? — крикнула я ему вслед.
— Все, что угодно, — бросил он через плечо, — если попадет не в те руки.
Тем вечером я постелила себе постель в комнате, расположенной рядом с личными покоями царя, зная, что моя сестра находится за стеной, но я не могу ее позвать. Я посмотрела на выставленные на подоконнике горшочки с травами, которые перенесли путешествие из Ахмима в Фивы, а теперь их еще и таскали из комнаты в комнату. Завтра царица объявит о дате нашего отъезда в Мемфис, и травам придется снова проститься с насиженным местом.
Когда Ипу пришла помочь мне раздеться, она заметила мой унылый вид и прищелкнула языком.
— Что случилось, госпожа?
Я пожала плечами, притворяясь, будто дело в какой-нибудь чепухе.
— Ты скучаешь по дому, — предположила Ипу, и я кивнула.
Ипу стянула с меня через голову облегающее платье, и я надела другое, свежее. Потом я послушно уселась на кровать, чтобы она могла причесать меня.
— А ты когда-нибудь скучаешь по дому? — тихо спросила я.
— Только когда думаю о братьях. — Ипу улыбнулась. — Я росла вместе с семью братьями. Потому-то я так хорошо и лажу с мужчинами.
Я рассмеялась.
— Ты ладишь со всеми. Я видела тебя на празднествах. Наверное, во всех Фивах не найти человека, которого ты не знала бы.
Ипу небрежно повела плечом, но возражать не стала.
— У нас в Файюме все такие. Дружелюбные.
— Так ты родилась у Меридова озера?
Ипу кивнула:
— В небольшой деревне между озером и Нилом.
Она принялась рассказывать про глинистые пустоши, уходящие в зеленые плодородные холмы, и виноградники, покрывающие берега сине-зеленого Нила.
— Во всем Египте не найти лучшего места для садоводства или выращивания хлеба; и там растет самый лучший папирус.
— А чем занималась твоя семья? — спросила я.
— Мой отец был личным виноделом фараона.
— И ты оставила отцовские виноградники ради работы во дворце?
— Только после его смерти. Мне тогда было двенадцать лет — я была самой младшей из пятерых дочерей и семерых сыновей. Мать во мне не нуждалась, а я унаследовала ее умение обращаться с косметикой.
Я посмотрела в висящее над нами зеркало, на густо накрашенные глаза Ипу, на мазки малахита, никогда не расползавшиеся от жары.
— Старший дал мне место в свите царицы. Постепенно я стала ее любимицей.
И при этом царица позволила ей перейти ко мне. Я подумала о тете и всех ее бескорыстных деяниях, которые остались незамеченными. И о том, с какой любовью она относилась к своему сыну, себялюбивому и думающему лишь о себе.