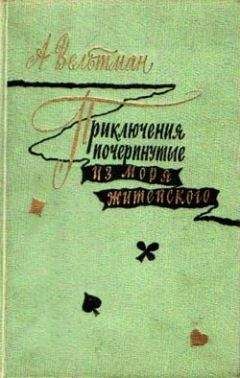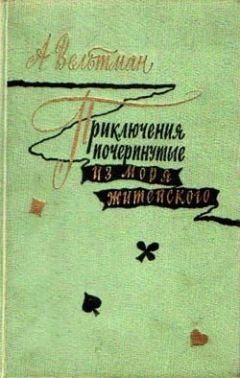Александр Вельтман - Приключения, почерпнутые из моря житейского. Саломея
— Экие страшные вещи рассказывает! — пришпорил солдат.
— Разговорился, мошенник! молчать, бестия! — проговорил и чиновник, которого задели как будто за живое слова Дмитрицкого. — Убийца, подлец!..
— Петруха-то, чай, получше меня душегуб, а я бы вам указал на него: так бы уж нас вместе с ним в одну палату, на одну цепь.
Сыщик откашлянулся, как будто поперхнувшись, но не отвечал ни слова.
— Пошел! — крикнул он. Тройка поскакала куда следует.
Сыщик в шинели представил Дмитрицкого по принадлежности.
— Честь имею представить самого атамана шайки, своими руками взял, — сказал он.
— Ух! какая рожа! — крикнул пристав, осматривая Дмитрицкого, — так и видно, что убийца!.. Что, скольких ты убил на своем веку?…
— Да изрядно-таки; считать не считал, — отвечал Дмитрицкий, смотря пристально в глаза поймавшему его сыщику, — вот, я думаю, они знают.
— Откуда ж мне знать, — проговорил сыщик смутясь. Взор Дмитрицкого напомнил ему что-то, и он содрогнулся
невольно.
— Злодейская рожа! — продолжал пристав. — Весело небось резать?
— Што-с? да как же, весело! Зарежешь, например, такого, как ваша милость, — бесподобное дело!
— Фу, бесчеловечное животное! в кандалы его! Да, покуда здесь, на цепь, в сибирку!
— Ну, кажется, уж теперь вырваться нельзя, Вася? Да и к чему?… Сам себе приюта не нашел, добрые люди дадут приют. Прощенья просим, — продолжал Дмитрицкий вслух, обращаясь к усачу-сыщику. — Хм! счастье! Петруха, забубённая голова, попал в люди!
VI
— Что, матушка, у тебя чайку-то нет и денег нет? — говорила одна старушонка в чепчике, сидя подле постели больной, расслабленной женщины, которая только что очнулась от беспамятства и смотрела на высокую, чистую, но пустынную комнату, где стояла только железная кровать, на которой она лежала, зеленый столик подле и стул.
— Где я? — проговорила слабым голосом больная, в которой невозможно было уже узнать Саломеи, так переменились черты ее лица, огонь глаз потух, жизнь погасла.
— В больнице, матушка, в больнице, — отвечала старуха, — здесь ведь порция-то, знаешь… хоть бы чаек-то свой…
Саломея как будто вдруг почувствовала резкую внутреннюю боль, болезненное лицо ее сжалось; она закрыла глаза, и глухой стон раздался в груди.
— Вот и родных-то, верно, нет никого, — продолжала старуха разговаривать сама с собой, — в две недели никто не навестил… Послушай-ко, матушка, родные-то есть у тебя здесь?
Саломея покачала головою и глубоко вздохнула.
— Послушай-ко меня; если б ты смогла написать просительное письмецо к графским и княжеским сиятельствам… ей-богу! а я бы походила с ним по домам… Так-таки просто написала бы «что я вот такая-то капитанша или майорша… выставишь чин-то, так лучше, знаешь… капитанша или майорша; ну, а потом: ваше графское сиятельство, помогите от милости вашего благоутробного сердца, я, дескать, больная, в беспамятстве лежу, руками и ногами не владею… семейство на руках имею, а нахожусь в больнице, по бедности состояния… ваше, мол, превосходительство…»
— Перестань! — слабо проговорила Саломея, махнув рукой на старуху.
— Ничего, ей-богу, ничего; это уж так водится: хоть господин какой, хоть купец, все равно, — все ваше графское сиятельство и превосходительство; это ничего; никто не отказывается, что я, дескать, не граф… и подают, — иной гривенничек даст, и больше случается…
— О боже мой! перестань говорить!
— Хм! какая ты! Не верит! Добро бы я с бухты-барахты говорила!.. Ты уж верь мне. Я и чернилицу и бумаги достану, и скажу тебе, как писать… Не можешь? э-эх! Так вот что: я писаря попрошу написать… да надо будет дать ему, мошеннику, двугривенничек по крайней мере… а он уж так и напишет, чти ты без ног, без рук лежишь… подписать только самой не мешает… да на это-то достанет, матушка, силы, — штука помакнуть перо, да и черкнуть — такая-то асессорша или чиновница, или как, бог тебя знает… говорят ведь, вишь, что ты французинка… Так это еще лучше для господ-то…
Саломея не в состоянии уже была переносить говора старухи; каждое слово ее как будто какое-нибудь отвратительное насекомое ползло по ней; сердце содрогалось от ужаса, чувства раздражались; но нет сил подать голоса, что она страдает, чтоб спасли ее от мучений…
— Что ты сморщилась, матушка, да машешь все рукой?… — продолжала старуха, — болит, что ли, что у тебя? Что ж делать-то?… Терпи!.. Колотья, верно? Такие ли у меня бывали колотья: криком кричишь, бывало; а это еще что, как только поморщишься… это еще слава богу…
Глухой, продолжительный стон вырвался из груди больной.
— А! вот, верно, теперь посильнее? Ничего! пройдет!.. Так ли еще бывает… Вот если б чайку ты напилась, так как рукой сняло бы… Право! Вот кто-нибудь да положил же тебя в больницу, а никто не подумает проведать, не нуждаешься ли в чем… Или бы уж денег оставили тебе… Больничная-то порция, известное дело: с голоду не умрешь, а сыт не будешь — кашица да суп, вот и всё. Ну, а как поотляжет, так оно и того и сего… а чайку-то особенно… Я уж что за человек, а без чаю не могу обойтиться. Не могу, матушка, ей-богу не могу!.. Бывало, ничего, и горя мало, покуда не вышла замуж за станционного смотрителя; а уж известное дело, как побываешь в офицерском звании да поводишься с благородными, так и нельзя — и к себе на чашку чаю надо просить. Ведь, бог знает, не што такое, — трава, а приятно. Признательно, однако же, сказать, как поднесли в первый-то раз, пью я да морщусь; так бы и выплюнула в лахань, да совестно. На первый-то раз тошнило, а после-то как слюбилось — хлебом не корми!.. Бывало, десять раз в день поставишь для проезжих самовар — пью не напьюсь. Надо сказать, что и доход-то хороший был от чаю, особливо зимой: иной проезжий прозябнет — сам просит; а другого и призадержишь: «Лошадям-то, сударь, еще надо поотдохнуть, сейчас приехали, а покуда бы вы, сударь, чайку испили». Покобянится, да и нечего делать; а мне «лафа».
Да и то надо сказать, смотрителю в офицерском звании не приходится брать на водку, а как дадут на чай, так отчего не взять? Тут ничего нет неуважительного такого…
Саломея протянула руку к столу, чтоб подали ей кружку с водой, утолить жар, который пожирал ее; но старуха, надев очки, продолжала вязать чулок и мучить больную рассказами.
— Вот как вспомнила об чае, так и захотелось, — продолжала она, положив чулок на стол, — уж ты полежи, матушка, одна, а я пойду к фельдшерше, чай уж она пьет.
Старуха вышла. Саломея снова протянула руку к столу, но некому понять ее желания.