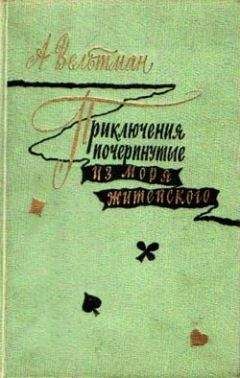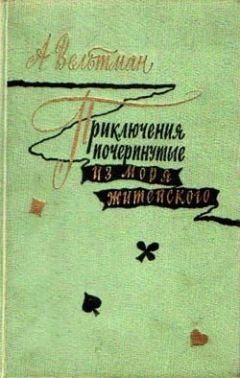Александр Вельтман - Приключения, почерпнутые из моря житейского. Саломея
— Для чего же это? Не все ли равно, после меня именье достанется дочери.
— Э, нет, не все равно: во-первых, — долг чуть не превышает стоимости именья… так уж лучше я куплю именье по вкусу; а во-вторых…
— Во-вторых, — прервал отец Мери, — об этом нечего уже и говорить! Прощайте!
Тут только понял он, что за человек Степан Ануфриевич и что за судьба ожидает Мери, которая слышала все и, безмолвная, бледная, вышла из другой комнаты проститься с отцом.
Степан Ануфриевич, с своей стороны, почитая себя вправе негодовать на тестя и считать, что он поступил с ним бесчестно, перестал к нему ездить в дом; с знатной родней жены он не мог сойтиться по причинам понятным и очень естественным. Обманувшись сам в надеждах на связи, Степан Ануфриевич отстранил от дому своего всех родных, всех знакомых Мери.
Она осталась одна в новом для нее свете, как белая среди черных.
Какие-то политипажные чиновные лица,[255] сослуживцы Степана Ануфриевича, являлись в дом, то на обед, то на вечер, на преферансик; знакомились с нею, просили позволения познакомить жен; жены приезжали с визитом, и Мери должна была, по настоятельному требованию мужа, принимать всех и каждую; но никак не могла угодить Степану Ануфриевичу, который понимал приличие подобострастием пред высшими и высокомерием пред низшими и приходил в исступление, смотря на жену свою, сохраняющую истинное достоинство женщины.
— Вы, сударыня, гордыня! — твердил он ей, — тайная советница делает вам честь своим посещением, а вы… обращения не знаете-с! аттенции не имеете-с! Думаете, что так важна ваша родня, что все прочее дрянь!.. А вы-то сами что-с? Дочь надворного советника и больше ничего-с! Я вам доставил вес в обществе не с тем, чтоб вы нарушали мои отношения с людьми-с!.. Да-с! Вы думаете, эмансипация будет у меня в доме? Нет-с!.. Никогда-с!
— Я вас не понимаю, — произнесла смиренно Мария.
— А я вас понимаю-с! Вы думаете, что все равны-с: и ее превосходительство Анна Григорьевна, которая вас удостаивает своим знакомством, и какая-нибудь Варвара Павловна, которая обязана изъявлять супруге начальника своего мужа достодолжное уважение?… страм, сударыня: с женой моего секретаря вы за панибрата! прибежит Варвара Павловна, женщина без всякого приличия, болтунья, дерзкая, та-та-та, та-та-та, вы и сами вне себя, так и ходите за ней хвостом!.. А тут приедет какая-нибудь значительная особа, ни малейшей аттенции!.. А чуть Варвара Павловна — и угощения, и разговоры, и господи, боже мой!.. Придет, кивнет без всякой пристойности головой: «Здравствуй, Степан Ануфриевич!» — а потом та-та-та, по-французски, и плюх за фортопьяны; начнет барабанить, орать во все горло… Невежа! Я не для нее купил фортопьяны! Дерзость какая! Вдруг вздумала мне выговаривать, что я не даю балов!.. Вчера приехал Авдей Васильевич, сенатор, а она не только что с места не встает, да и поклониться не хочет: заняла, шлюха, первое место в гостиной, да и сидит! Почтенный человек, вельможа, должен был сесть на стуле! Дрянь! Я не для нее завел диваны!.. Нет, уж она мне надоела! Попробуй еще, та-та-та, потатакать у меня!
Горьки были для Марии эти нападки на Варвару Павловну, которая одна из всех знакомств и служебных отношений мужа пришлась и по образованию и по нраву ей по сердцу. Она не утерпела, чтоб не заступиться за нее.
— Что сделала вам эта добрая, милая, полная достоинств женщина? — сказала Мария.
— О! высоких достоинств! Секретарша! Это очень видно, что она высоко о себе думает: кричит как у себя дома: человек! подай мне воды!.. приказывает моим людям! Для нее я держу людей!.. Пусть кто-нибудь попробует вперед исполнять ее приказания!.. Приведет целую ватагу своих девчонок, добро бы у нас были дети, так для компании; а то для чего, чтоб их здесь кормили да лакомили!
Мария отвечала на эти слова глубоким вздохом, но и вздох не остался без упреку.
— Можете вздыхать по ней-с! — сказал злобно и значительно Степан Ануфриевич.
Через несколько дней Варвара Павловна прибежала вся в слезах, с мольбой упросить Степана Ануфриевича пощадить ее мужа, не отрешать от должности, не лишать куска хлеба.
Не нужно было спрашивать о причине. Нильская поняла ее, поняла в первый раз и тяжкое чувство ненависти к мужу за вопиющую несправедливость, которая только ей одной была известна и которую она обязана была таить от всех. Но долг велел ей чтить и любить этого человека.
Чтоб любить воистину, говорят, надо любить всеми способностями бессмертной души и тленного тела; и надо любить взаимно умом, сердцем и всеми пятью чувствами. Только при этих условиях все существо человека здравствует и благоденствует; каждый атом, составляющий его, счастлив, каждый пор, как уста, впивается жарким поцелуем в сочувствующий ему. Это сочетание двух крайностей природы, это стихия духа, проникающая стихию материи и рождающая воистину жизнь, а не просто существование на белом свете.
Но это тримурти[256] любви, говорят, мечта. Мечта ли? Оно только распалось на три свои свойства — на союз по рассудку, на союз по сердцу и на союз по увлечению чувств. Для Нильской ни то, ни другое, ни третье не существовало. Что ж было ей делать? Надо было или проникнуться миром, или рассеяться в мире.
Соблазны света были ей не по душе, она не любила рассеянности, ей нужна была спокойная, согласная семейная жизнь, если и без счастливой взаимности чувств, то по крайней мере без притязаний. Но Нильская и дома ни хозяйка, ни гостья, как многие. Распоряжаться ей не дозволяли, не обходились и прилично, на условиях светской утонченной вежливости, которая не иначе называет жену, как мадам. Нильская не могла посвятить время по произволу никакому занятию. Займется ли она от скуки и тоски чтением, ей говорят: «У вас, сударыня, в голове только романы!» — «Это не роман, это историческая книга». — «А! вы в ученые хотите попасть, в академию-с!» Займется ли шитьем по канве: «Что здесь, фабрика, что ли-с, наставили своих пяльцев!» — «Где ж мне сесть шить?» — «Да это глупое дело-с вышивать ваши ковры, тратить только деньги на шерсть-с, по четырнадцати рублей фунт, да фунтов двадцать; а что выйдет? попона! Покорно вас благодарю! У меня нет такого богатства, чтоб платить несколько сот за попону; а в комнате я не позволю расстилать такую дрянь!»
Чем же заняться Нильской?
Покуда горе таилось в ней, она терпеливо изнывала пол тягостью его. Но едва свет узнал о ее судьбе, все родные и знакомые занялись рассеянием ее горя, вырвали ее из этого онемения, влили насильно в душу ее опиум, учили находить в светском рассеянии замену счастия.