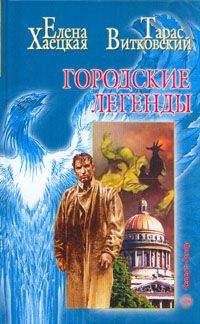Лючано Де Крешенцо - Елена, любовь моя, Елена!
Сочувствуя такой беде, Гомер посвятил Протесилаю следующие горькие строки:
«В Филаке он и супругу, с душою растерзанной, бросил,
Бросил и дом полуоконченный: пал, пораженный дарданцем,
Первый от всех аргивян с корабля соскочивший на берег».[29]
Черта с два спрыгнул бы он – это уже говорю вам я, – не подтолкни его хорошенько Фетида. Как бы не так!
Узнав о смерти Протесилая, Лаодамия долго предавалась отчаянию, как и любая другая жена, окажись она в такой беде. К тому же разве не обидно ей было это издевательство с первой и единственной брачной ночью? Как несправедливо обошлась с ней судьба! Сначала несогласие отца на ее замужество, потом наспех сыгранная свадьба, отплытие Протесилая в Трою, и вот в довершение всего – трагическая гибель молодожена в ту самую минуту, когда он ступил на чужую землю. По долгом размышлении бедняжка пришла к выводу, что слишком уж жестоко поступили с ней злой Фатум и богиня Персефона, и потому именно у этой богини она решила испросить хотя бы еще одну ночь любви.
– О богиня Последнего Прибежища душ человеческих! – обратилась к ней Лаодамия. – Ты, ведающая, сколько горя приносит всем утрата любимых, ты, до сих пор сама вынужденная делить свое время между любящим мужем и оплакивающей тебя матерью, подари мне и моему злополучному супругу хоть короткое любовное свидание. Единственную ночь провел он со мной, и еще только об одной ночи прошу я тебя.
Персефона сочувственно выслушала Лаодамию и подарила ей столь желанную вторую ночь; а если быть точными, то не ночь, а три часа, которые супруги смогли провести вместе в абсолютной тайне.
Во время ночной грозы погибший герой явился прямо в опочивальню Лаодамии – в том самом военном снаряжении, в котором он уехал из дома, и с залитой кровью грудью.
– Ты здесь, любовь моя! – воскликнула Лаодамия, пылко обнимая супруга.
– Не теряй времени, дорогая, – поторопил он жену, слегка отстраняя ее от себя, чтобы можно было раздеться. – Дай мне поскорее взойти на вожделенное брачное ложе! Я так жажду твоих объятий, что просто терпенья больше нет! Всего лишь три часа подарили нам боги, зачем же тратить их на слова – даже на самые нежные, сокращая время наших ласк?
– Нет, Протесилай, постой! – вскричала она. – Нам дана одна только ночь…
– …Говоря точнее, радость моя, не ночь, а только три часа, – заметил он с педантичностью, пожалуй, чрезмерной в подобной ситуации.
– …эти жалкие три часа не смогут утолить мою страсть, и чем тратить время на пошлые объятия дай-ка я использую его по-иному. Посиди передо мной, не двигаясь, чтобы я могла изваять точную твою копию. Только так ты сможешь остаться со мной до конца моих печальных дней.
Сказано – сделано. Лаодамия (обладавшая, заметим, незаурядными способностями ваятельницы) велела рабам принести квинтал воска и стала лепить скульптуру человека в позе мужчины, обнимающего женщину. Окончив работу, она возложила статую на свою постель и устроилась в ее объятиях.
Отец, заметив долгое отсутствие дочери, послал слуг проследить за ней и, узнав, что она дни и ночи проводит в объятиях какого-то мужчины, высадил дверь ее опочивальни. Когда же горестный обман раскрылся, он повелел бросить статую покойного зятя в кипящее масло. Но в тот самый момент, когда воск начал таять, несчастная Лаодамия тоже бросилась в котел.
Леонтий и Гемонид не были суеверными, однако легенда о Протесилае – правдивая или нет – все же произвела на них впечатление, и они сочли за благо сойти с судна последними. Между тем Филоктерий блестяще разрешил проблему разгрузки судна. Капитан велел отвязать от скамьи самого пожилого гребца-ливийца и заставил его проложить дорогу остальным. Не исключено, что Филоктерий и сам собирался убить раба, но Гемонид сразу же встал на его защиту:
– Пусть живет, о Филоктерий! – воскликнул учитель. – Не видишь разве? Он же совсем седой!
– Потому я и решил прикончить его! – ответил с поразительным хладнокровием старый циник. – Этому ливийцу уже больше тридцати, и держать его гребцом не имеет смысла: ест и пьет он, как молодой, а темпа, задаваемого загребным, не выдерживает. Да хоть он и умрет, моей вины в том не будет: вспомни о проклятье Протесилая!
– Пусть так, – вмешался Леонтий, – но предоставь заботу о нем мойрам.
У Филоктерия в тот день было, вероятно, хорошее настроение, и он, правда, без большой охоты, все же отменил свой приказ о казни ливийца. Леонтий и Гемонид, гордясь тем, что сумели спасти человеку жизнь, направились было к лагерю ахейцев, но на их пути вдруг встал какой-то оборванный воин из Локриды.
– Зачем явились вы в Илион, о жители Крита? – спросил он. – Война окончена, все спешат в родные места и осаждают прорицателей, чтобы узнать, в какую сторону дуют ветры.
– Война окончена?! – воскликнул потрясенный учитель. – И чем же она окончилась?
– Вот это единственное, чего я так и не понял, – признался локридец. – Но вчера мой командир, лучший среди ахейцев копьеметатель Аякс Оилид, сказал мне: «О Листодемий, хочу сообщить тебе благую весть: завтра возвращаемся домой. Скажи своим товарищам, пусть погружают все на суда и готовятся спустить их на воду». Признаюсь, старец, известие это переполнило мою душу радостью, и теперь я жду не дождусь, когда вновь смогу обнять своих детей, а с ними и жену, если, конечно, за это время она не подыскала себе кого-нибудь помоложе.
– О Листодемий, лживый твой язык! – воскликнул другой ахеец, который в отличие от локридца был одет в изысканный кожаный thorax.[30] – Да ты просто ублюдок! Самый лучший копьеметатель – Идоменей, а не твой коротышка Аякс Оилид. Его счастье, что мы союзники и никто не заставил его помериться силой с моим командиром, не то он уже давно гнил бы в Аиде.
– А сам-то ты кто, червь вонючий, что осмеливаешься сомневаться в доблести моего вождя? – воскликнул первый воин, выхватывая из-за пояса что-то вроде дубинки длиной с полметра.
– Ничтожная вошь из ничтожной Локриды! – дерзко вскричал второй. – Если не веришь, что мой командир лучше твоего, так убедись по крайней мере, что я, Ариакс, сын Гаденория, ловчее тебя в искусстве кулачного боя[31] и дважды был чемпионом у себя на Крите!
– Да перестаньте же, ахейцы! – воскликнул Леонтий, становясь между двумя вооруженными воинами и прекращая ссору, грозящую перерасти в нешуточную драку. – Лучше скажите: война действительно окончилась?
– О благородный юноша, – с готовностью откликнулся Ариакс. Мастер поживиться на дармовщинку, он сразу же учуял, что дело пахнет доброй выпивкой. – Горло у меня сегодня сухое, как песок в пустыне, и уж, конечно, не солнце Дардании развяжет мне язык. Но если ты поднесешь мне чару фестского винца, кровь Диониса наверняка вернет мне дар речи. В нескольких шагах отсюда есть как раз лавчонка ликийца Телония.