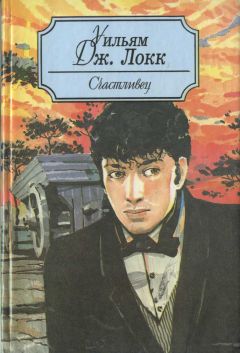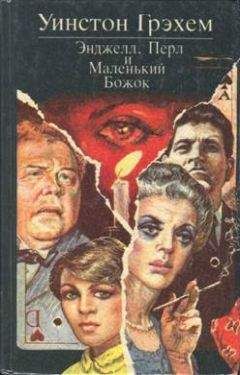Уильям Локк - Триумф Клементины
Он протянул свою руку, но Квистус даже не взглянул на него.
— Вы трое не только напились, но и оклеветали меня, бессовестно оклеветали меня за моей спиной.
Он подошел к двери и широко открыл ее.
— Мне кажется, нам пора присоединиться к остальным, Хьюкаби.
Хьюкаби зашагал, шатаясь, по ступеням, бормоча что-то об омарах и Параблях, и уверял своего хозяина, что изменившиеся обстоятельства не окажут влияния на его неподдельную дружбу.
Так они достигли столовой. Хьюкаби был прав. Биллитер лежал в кресле, весь засыпанный пеплом; его голова была украшена абажуром, но это не вызвало ни тени улыбки на лице Квистуса. Его глаза были устремлены на горько плакавшего Вендермера, причитавшего, что его никто не любит.
При появлении Квистуса Биллитер сделал усилие вскочить, но свалился обратно, роняя абажур. Он что-то пробормотал о постоянном упорстве своих ног и выразил желание спать. Вандермер обливался слезами.
— Никто меня не любит, — стонал он, стараясь схватить пустой графин и роняя его. — Не осталось даже ни капли утешения.
— Отвратительно, не правда ли? — икнул Хьюкаби.
Квистус смотрел на них с отвращением.
Человечество было посрамлено. Он повернулся к Хьюкаби и с содроганием сказал:
— Уберите их ради Бога!
Хьюкаби внимательно оглядел их.
— Не могут идти… Красные омары… Нужен кэб.
Квистус пошел к входной двери и свистнул извозчика; с помощью Хьюкаби и кэбмена пьяницы были отправлены домой. Каждый был помешен в лежачем положении в отдельный экипаж.
Как только затих звук колес, Квистус снял пальто Хьюкаби.
— Вы достаточно трезвы, чтобы пройтись пешком, — сказал он, желая ему спокойной ночи.
Хьюкаби пошел к двери.
— Помните — не сердись на друга, что я всегда приду к вам на помощь, член Тела…
Квистус, не слушая, захлопнул за ним дверь.
Это были его друзья; люди, жившие его добротой, годами таившие свои пороки и лицемерие. Это были люди, для которых он боролся, эти пьяницы, лицемеры, оборвыши. Его душа была пуста.
Он остановился в столовой, взглянул на разгром. Вино и кофе разлито; стаканы разбиты; дымившаяся сигара прожгла в скатерти огромную дыру. Он представил себе, что было. А будь он с ними, они сидели бы с постными лицами, отказываясь от второго стакана вина, и разговаривали об искусстве, литературе, религии и т. д. И, уходя, жали бы руку, шептали благословения и все время в душе таили яд предательства и одно желание — напиться.
— Негодные притворщики, негодяи, — шептал он, возвращаясь в музей, — негодные притворщики…
Жестом гнева и отвращения он засунул руки глубоко в карманы. Пальцы коснулись скомканного письма. Он покачнулся и схватился за перила лестницы, чтобы не упасть.
Маленькое предательство заставило его забыть о большом.
— Господи, — сказал он, — неужели все против меня?
К несчастью, его ждали еще удары.
ГЛАВА V
«Моему племяннику Ефраиму я завещаю в полное владение мой винный погреб и предлагаю ему пить вино с осторожностью, размышлением, толком и остановкой, предполагая, что, сделавшись знатоком вина, он приобретет знание людей и дела».
Квистус уставился на иронические слова, написанные острым почерком Маттью Квистуса, и, побелевший, обернулся к нотариусу.
— Это все, что мне отходит по завещанию, мистер Хенсло? — осведомился он.
— К сожалению, да, доктор Квистус. Посмотрите сами. — Он протянул ему документ.
Маттью Квистус оставил большие суммы на дела благотворительности, меньшие — старым слугам, вино — Ефраиму и имения неизвестному Квистусу, переселившемуся тридцать лет тому назад в Нью-Йорк. Даже Томми Бургрэв, с которым он был в хороших отношениях, не был упомянут.
Много лет тому назад старик поссорился со своей племянницей, матерью Томми, за неподходящий брак и, нужно ему отдать справедливость, никогда ничего юноше не обещал. Завещание было сделано несколько недель тому назад и подписано лакеем и кучером.
— Я хочу, чтобы вы знали, доктор Квистус, — сказал Хенсло, — что пока мы не нашли этого конверта, мы не подозревали, что есть новое завещание. Я пришел сюда за старым, которое хранится у меня уже пятнадцать лет. Я должен еще заметить, что вы были единственным прямым законным наследником, не считая побочных.
— Покажите мне число, — попросил Квистус.
Он закрыл глаза руками и задумался. Помеченное число было днем накануне его приезда в последний раз.
Телеграмма о внезапной смерти Маттью Квистуса бросила луч света в его душу, уже неделю погруженную во мрак. У него появился интерес к происшедшему. Он искренне любил старика.
Его смерть была для него ударом. В его сердце зашевелилось чувство жалости, нежности и сожаления. Он отправился в Девоншир, в Крокстон, и слезы выступили на его глазах при виде заострившегося воскового лица.
Он известил второго бывшего в Англии члена семьи, Томми Бургрэва, но тот не мог приехать. Он простудился, делая этюд на улице, и схватил воспаление легких.
Квистус был один в огромном доме. С помощью Хенсло он похоронил дядю. Старик был погребен на мирном кладбище Крокстона. Половина населения пришла почтить его память и пожать руку Квистусу. Затем он вернулся домой и в присутствии нескольких старых слуг было вскрыто завещание.
Оно было сделано накануне его последнего визита. Оно было подписано и засвидетельствовано и лежало уже в ящике бюро в то время, как старик приветствовал его и льстил ему, оказывая почет. Старик провел и одурачил его.
Его бледные голубые глаза сверкнули, и он повернулся с каменным лицом к нотариусу.
— Мне кажется невозможным, — заметил Хенсло, — что старое завещание было уничтожено, предположим, по старческой немощи завещателя.
— Мой дядя, делая новое завещание, совершая эту жестокость, вполне владел своими умственными способностями, — сказал Квистус.
— Это бессердечная шутка, — согласился нотариус.
— Будьте добры, м-р Хенсло, велеть слугам упаковать мои вещи и отправить их в Лондон. Я еду на вокзал.
Нотариус посмотрел на часы и запротестовал.
— Между двумя и тремя часами нет никакого поезда.
— Я лучше пойду в харчевню, чем останусь еще на секунду в этом доме.
Он вышел из дома, отправился на станцию, дал телеграмму своей экономке, которая не ждала его раньше двух-трех дней, и с первым поездом отправился в Лондон.
Он сидел совсем уничтоженный в углу купе. Все происшедшее должно было убить в нем всякую веру в человека. Внезапно, как на Иова, на него посыпались несчастье за несчастьем, разоблачившие перед ним исключительную низость, предательство и жестокость.